Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Комментарии (1)
Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. т.1
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МУЗЫКА И ПЛАСТИКА
I. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА
1
В начале всякого обозрения, проблема которого не в происхождении и смысле художественных произведений, а в происхождении и смысле родов искусства, необходимо указать, что подразумевается под формой искусства, поскольку говорится не о средствах и целях личной художественной воли, а о стремлении целых поколений, движущихся в одном направлении, стремлении, которого никто не знает и не хочет, и которому всякий индивидуум тем не менее подчиняется. Определения и эстетические тезисы здесь в одинаковой степени недостаточны. Всякий в слово "формы искусства" вкладывает разное значение. Нет сомнения, что везде, где действует живое искусство, существует известная сумма формальных основоположений, которые можно назвать канонами, традицией, или школой, которые можно преподавать и изучать, усвоение, которых наделяет мастерством и развитие которых многие только и имеют в виду, когда принимаются за книгу под и званием "История искусства" Эстетика и философия всегда любили приводить в систему подобные соизмеримые элементы.
Собственно тайна формы окажется, однако, на этом пути
скорей потерянной, чем достигнутой. Произведение искусства
есть нечто бесконечное. Оно заключает в себе весь мир. Оно представляет собой микрокосм, неисчерпаемый в целом и понятный только в некоторых отдельных внешних подробностях, при условии, конечно, что оно вообще имеет значение, а не есть только нарочито задуманная и исполненная механическая работа. То, что может быть понято в нем умом и, следовательно, может быть возведено в систему, принадлежит к внешности. Если бы у больших школ кроме запаса легко сообщаемых технических приемов не было еще иного настоящего смысла, который не столько передается по наследству сколько пробуждает самодеятельность, то их фактически решающее значение - так как нет искусства без предания было бы труднопонятным.
296
Совершенно иная форма, форма души, если возможно определить так невыразимое, таится в том, что люди называют
"содержанием".
"Я страдала и любила - таков был настоящий облик моего сердца", - говорится в "Вильгельме Майстере", в "Признаниях прекрасной души".
Есть, притом не только в области искусства, форма, происходящая от страха, и форма, происходящая от тоскливого стремления. Одна подчиняет своей власти, называя именами и налагая правила, другая дает откровение. Для первой чувственное восприятие есть сущность, для второго - средство. Есть художники, которые владеют только одной из них. Жан-Поль беден формой, если вспомнить, с каким мастерством владеет ею Расин. У Бетховена одна постоянно угрожает уничтожить другую.
Есть форма уже ставшая и остающаяся таковой, следовательно настоящая, и вечно становящаяся, следовательно не настоящая *. Первая, неподвижная, обусловливает бытие всего уже законченного, всего того, что "существует" в области естественного мира. Основные правила фуги или пластической группы совершенно так же заложены a priori в основе явления отдельных произведений искусств для нашего глаза или для уха, как Кантовы формы созерцания или категории рассудка в основе явления естественных вещей. Этот элементарный образ, "тело" произведения 'искусства, подчиненный принципам причинности - художественной логики, - с помощью которых всякое произведение искусства принадлежит к области действительного, ограниченного и управляемого законами, - преходяще, как все действительное. Нет "бессмертных, образцовых творений". Последний орган, последняя скрипка Страдивариуса со временем погибнут. Весь волшебный мир наших сонат, трио, симфоний, арий, язык форм которых возник немного столетий тому назад вместе совсем изобилием музыкальных инструментов, нарочно для них созданных и говорящих только для фаустовской души, для нас и из нас, замолкнет снова и исчезнет. Что мы знаем об индийской и китайской музыке и душевных потрясениях, которые пробуждались ее правилами? Высшие моменты мелодики и гармоники Бетховена, изумительные для нас, посвященных, покажутся всем чуждым и грядущим культурам нелепым караньем, производимым странными инструментами. От фресок
* Быть может, следовало бы избегать слова "форма", потому что оно отмечает момент протяженности. Но не надо забывать, что слова вообще, как нечто ставшее и неподвижное, суть недостаточное средство для обозначения чего-либо из сферы становления
297
Полигнота ничего не осталось, и это избавляет нас от неизбежности превратного их понимания. Сооружения майев, очевидно образцовые произведения для поколения их создателей, для нас кажутся только курьезами; таковыми же будут для позднейших поколений Страсбургский собор, Палаццо Фарнезе, офорты, гравюры, рифма и драма. Холст, на котором Рембрандт и Тициан писали свои. величайшие творения, погибнет, но, вероятно, раньше его погибнет остаток людей, для которых эти картины представляют нечто большее, чем пестрый холст. Какое значение имеют для египетских феллахов и для индийского кули пирамиды и Веды их предков? Что знаем мы о влиянии греческих стихов на людей того времени? Все то, что при этом уничтожается и может быть уничтожено, когда перестает быть действительностью и обладать смыслом для души какого-нибудь человека, есть ставшая форма.
Все это касается той другой формы, которая вскрывается в
беспрерывном становлении и есть собственно живая, есть образ души. Произведение искусства также имеет душу: оно вообще есть нечто духовное, вне пределов пространства, границы и числа. Чтобы быть, этот образ не нуждается в действительности. Он возникает и не уничтожается. Даже утраченные - исчезнувшие из чувственного естественного бытия - трагедии Эсхила пребывают, не в написанной или устно переданной форме, не как материальные творения, не для дневного сознания каких-нибудь людей, а в той сущности, которая нерушима. Это тайна, которую словами можно только не полно и ложно истолковать. Поэтому в очень глубоком смысле телесные явления величайших произведений искусства остаются отрывками, чего, однако не сознает большинство зрителей. Пусть с внешней стороны для художественного понимания, для чувств они кажутся законченными, внутри же дело обстоит совсем не так, и в некоторые моменты чувствуешь причину этого. Это касается не только картин Леонардо и Гётевских "Фауста" и "Майстера"; в гравюрах Рембрандта есть какое-то искание, какая-то незаконченность. Музыка "Тристана" полна безответных вопросов; "Гамлет" такой же вопрос, как "Буря" и "Зимняя Сказка"; Клейст неоднократно сжигал "Роберта Гискарда", и Достоевский оставил неоконченными "Братьев Карамазовых" и "Преступление и наказание", твердо сознавая несовершенство всякого осуществления идеи. Относительно всех художников и поэтов, давших отчет в своей деятельности, мы знаем и видим, сколь многое осталось наброском и идеей - внутренним образом - только потому, что не выявилось возможность настоящей, естественной
298
внешней формы. Отделка, завершение, законченность, а не только доведение до конца, - все это признаки произведений
низшего порядка, все это - результат привычки, опыта, специфического таланта. Такая форма порождает тип виртуоза и знатока. Другая - мистическое переживание, над которым не властен ни художник, ни тот, для кого он творит. Такой художник стремится к внутреннему завершению, первый завершает свои произведения. В руках одного технические средства, избранные культурой, достигают высшего совершенства; другой сам есть средство в руках судьбы культуры.
То, что невозможно выразить словами, быть может, нагляднее сделает следующая таблица:
     Душа Мир Душа Мир
 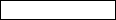    Бытие Завершение Бытие Завершение
 Возможность Действительность Возможность Действительность
 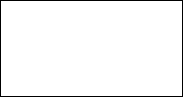 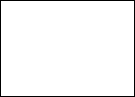 
 Искусство Идея (феномен) Элемент (мир) Искусство Идея (феномен) Элемент (мир)
Тоскливое стремление Страх
Религия Техника
  (всеобщее) (специальное) (всеобщее) (специальное)
"Образ сердца" Художественная форма"
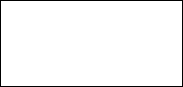 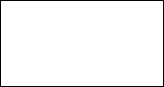 
 Художники Творчество, восприятие Работа, порядок Художники Творчество, восприятие Работа, порядок
"гений" "талант"
Чувство ("нечто") Рассудок ("я")
Интуиция Предание
(Одиночество) (Школа)
 
  Жан-Поль Расин Жан-Поль Расин
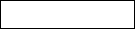 Леонардо Мане Леонардо Мане
Рембрандт, Моцарт
2
Мирочувствование высших людей находит свое символическое выражение - если оставить в стороне круг математических и физических представлений - полнее всего в изобразительных искусствах, количество которых бесконечно. Музыка также относится сюда, и если бы при абстрактном рассмотрении развития истории искусства принимать во внимание все ее различные виды, вместо того, чтобы отделять их от области живописно-пластических искусств, то, конечно, можно было бы уйти гораздо дальше в понимании той цели, к которой вообще стремится это развитие. Но мы никогда не поймем это стремление к творчеству, которое здесь действует неведомо для себя самого, если будем считать различие оптических
299
и акустических средств не только чем-то внешним. Не это разделяет искусства. Искусства для глаз и для уха - этим еще ничего не сказано. Только XIX столетие могло так переоценить значение физиологических условий выражения восприятия и посредничества. Картины Лоррена и Ватто в подлинном смысле так же мало адресованы телесному глазу, как музыка Баха телесному уху. Античное взаимоотношение между художественным произведением и органами чувств, на которое здесь постоянно, хотя совсем неосновательно, ссылаются, нечто совершенно иное, гораздо более простое и вещественное, чем наше. Мы читаем "Отелло" и "Фауста", изучаем партитуры для того, чтобы дух этих произведений в полной чистоте действовал на нас. В этих случаях всегда от внешнего чувства обращаются к внутреннему, к воображению. Так только можно понять бесконечную смену сцен в противоположность античному единству места. В предельных случаях, как, например в "Фаусте", исчерпывающая реальная передача содержания в целом вообще совершенно невозможна. Но и в музыке Моцарта, Бетховена, Вагнера за чувственными впечатлениями мы переживаем целый мир иных, в которых только и проявляется вся полнота и глубина произведения и о которых только и можно говорить переносными образами, - так как гармония чарует нас светлыми, коричневыми, темными, золотыми красками, сумерками, вершинами далеких гор, грозой, весенними ландшафтами, потонувшими городами и странными ликами. Не случайно Бетховен писал свои последние произведения, будучи глухим. Его глухота развязала последние узы его гения. Для этой музыки зрение и слух в равней мере суть только мост к душе, не больше. Греку совершенно чужд этот призрачный род художественного наслаждения. Он ощупывает глазами мрамор. Глаз и ухо суть для него восприемники всего впечатления, его полном объеме. Мы отошли от такого восприятия уже в готике.
В действительности звуки зависят от чисел, так же как
линии; гармония, мелодия, рифма, ритм, так же как и перспектива, пропорция, тени и контуры. Разница между двум родами живописи может быть бесконечно больше, чем между одновременными живописью и музыкой. В противоположность статуе Мирона, ландшафт Рембрандта и пасторольная симфония Бетховена принадлежат к одному и тому же искусству, их внутренний язык форм в такой степени идентичен что перед этим исчезает разница оптических и акустических средств.
300
Значение, которое наука об искусстве издавна придавала
построенному на понятиях отграничению отдельных художественных областей, указывает именно на то, что проблема не была понята во всей глубине. Педантичность систематиков и поверхностная потребность удобного распределения материала больше всего вредили успеху художественно-философских исследований. Всегда в первую голову старались по самым внешним признакам художественных средств разделить бесконечную область искусства на мнимо неподвижные отдельные виды искусств - с неизменяющимися принципами формы. Разделяли музыку и живопись,' музыку и драму, живопись и пластику, потом давали определения "живописи", "пластики", "трагедии". Но осязаемый результат технических способов выражения не что иное, как маска самого произведения. Стиль не есть, как предполагал поверхностный Семпер - настоящий современник Дарвина и материализма, - продукт материала, техники и применения. Наоборот, это то, что не укладывается в обычное понимание искусства, это судьба, это атмосфера духовности. У него нет ничего общего с материальными границами отдельных искусств.
Положить в основу разделения искусств условия чисто технического рода - значит заранее испортить всю постановку проблемы формы. "Как можно было" a priori признать "пластику" отдельным видом искусства и стараться на этом основании вывести общие основные законы? Что такое "пластика"? В чем ее отличие от раскрашенного рельефа? Живописи как таковой нет. Кто не чувствует, что рисунки Рафаэля и Тициана, из которых один работал контурами, а другой пятнами света и тени, принадлежат к двум различным искусствам, что искусство Джотто или Мантеньи и искусство Вермеера или Ван Гоена не имеют почти ничего общего между собой, что одни мазками кисти создают род рельефа, а другие из красочной поверхности - род музыки, тогда как фреска Полигнота и равеннская мозаика даже по технике и материалу не могут быть соединены в один общий с предыдущими вид, - тот вообще не способен проникать в глубину вопроса. Масляная живопись и инструментальная музыка, начиная с 1720 г., почти идентичны по внутреннему образу, по чувству формы. Ватто принадлежит к миру Куперэна и Ф.А. Баха и не имеет ничего общего с Рафаэлем. Что общего имеют между собой офорты Рембрандта с искусством Фра-Анджелико, прокоринфская вазовая живопись с готическим окном в соборе, египетский рельеф - с парфенонским?
Границы искусства - границы его мира форм - могут быть только историческими, а не техническими или
301
физиологическими. Искусство - организм, а не система. Нет рода искусства, который проходил бы через все века. Даже там,
где технические традиции - как, например, в Ренессансе - с первого раза обманывают глаз и как будто свидетельствуют о вечной силе античных художественных законов, в глубине господствует полная отчужденность. В греко-римском искусстве нет ничего родственного с языком форм статуй Донателло, с картиной Синьорелли или фасадом Микеланджело. У кваттроченто внутреннее сродство есть исключительно с современной готикой. Виды искусств быстро проходят и не возвращаются вновь. Каждая культура имеет свои собственные виды, группы видов искусств, теория и техника которых имеют даже значение символа человечества этих культур. Есть аполлоновский, фаустовский, магический виды искусства, по сравнению с чем различение искусства поверхностей и искусства тела - только второстепенный признак. Греческая музыка в тысячу раз ближе к греческой пластике, чем к искусству Палестрины. То, что теперь называют красочностью, - воображаемая передача пространственности при помощи красок, осталось бы непонятным живописцу сикионской школы. Прасимвол двух культур, - вот в чем коренится различие двух "одновременных" картин Полигнота и Рембрандта: в фресках - статуеобразное и эвклидовское сопоставление массивно-красочных плоскостей, в масляных картинах - контрапунктическое проникновение при помощи мазков кисти.
Понятие формы подвергается, таким образом, колоссальному расширению. Не только техническое орудие, не только материал - сам выбор вида искусства есть средство выражения. Как создание главного произведения, как, например "Ночной Стражи" Рембрандта, "Майстерзингеров" Вагнера, имеет для отдельного художника значение эпохи, такое же значение для истории жизни культуры имеет создание отдельного вида искусства как чего-то целого, например греческой свободно стоящей статуи, контрапункта, византийского фронтального портрета, перспективной масляной живописи. Каждое из этих искусств есть отдельный организм, без предшественников и последователей, если не руководиться одной только внешней стороной. Вся теория, техника, предание есть только часть этого вида искусства и отнюдь не обладает вечностью и всеобщим значением. Когда одно из таких искусств возникает, когда оно иссякает, иссякает ли оно, или превращается в другое, почему то или другое не находится в составе искусств известной культуры, - все это равным образом касается формы в высшем смысле, так же как другой вопрос.
302
почему отдельный живописец или музыкант, сам этого не
зная, не пользуется определенными красками или гармония-
ми и в такой мере отдает предпочтение другим, что его можно узнать по этому признаку.
Теория, даже современная, не поняла значения этой группы вопросов, и тем не менее только эта сторона дает физиогномике искусства ключ к его уразумению. До сих пор, не входя в рассмотрение этого сложного вопроса, считали существование всех видов искусства повсеместно возможным - причем всегда предпосылали упомянутое "подразделение", - а где замечали отсутствие того или другого вида, это объясняли случайным отсутствием творческих личностей, благоприятных обстоятельств 'или покровительства меценатов, от которых якобы зависело вести искусство дальше по пути развития. Это то, что я назвал перенесением физических причинных принципов из мира ставшего в мир становления. Так как не умели видеть логику другого рода и неизбежность всего живущего, т.е. судьбу, то обращались к материальным, осязаемым, лежащим на поверхности причинам, и конструировали с помощью их материальную последовательность художественно-исторических событий. Однако истории искусства архитектуры, музыки, драмы как таковых не существует. Выбор возможных внутри известной культуры искусств, из которых ни одно никогда не может существовать в другой культуре: их положение, их объем, их судьбы - все это относится к символике, к психологии культуры, а не есть следствие каких-либо причин.
В самом начале нами было указано на поверхностность
представления о линеобразном развитии "человечества" через
Древний мир - Средние века - Новое время, которое сделало нас слепыми относительно истинной картины истории и ее структуры. Пример истории искусства в данном смысле особенно показателен. Раз была принята, как не возбуждающая сомнений, наличность известного количества постоянных и строго определенных областей искусства, начали строить историю этих отдельных подразделений по столь же не возбуждающей сомнения схеме "Древний мир - Средние века - Новое время", в которой, например, индийское и азиатское искусство оказались совершенно лишенными места, причем никто не заметил бессмысленности конструкции в этой последовательности: эту схему признавали и хотели во что бы то ни стало заполнить фактами. Ни минуты не сомневаясь, констатировали бессмысленные смены подъема и упадка. Время затишья называли "естественной паузой", про "время упадка" говорили там, где, в сущности, большое искусство
303
умирало, про "времена возрождения" - там, где для беспристрастного взгляда совершенно ясно вырисовывается рожденье другого искусства, в другой стране и как выражение другого вида человечества. Даже теперь еще учат, что Ренессанс есть возрождение античности. Из этого выводили в конце концов заключение о полной возможности и необходимости снова направить на дорогу те виды искусства, которые признавали ослабевшими или уже погибнувшими - современность даст для этого особенно много поводов - с помощью новых образований и синтезов, с помощью особенно излюбленных за последнее время насильственных возрождений.
Однако как раз вопрос, почему великое искусство - аттическая драма в лице Еврипида, флорентийская пластика лице Микеланджело, инструментальная музыка в лице Листа и Вагнера - обычно приходит к концу с внезапностью, имеющей характер символа, может лучше всего осветить феномен этих искусств. Посмотрев пристальнее, легко убедиться , что никогда не могло быть и речи о "возрождении" кого-либо из значительных искусств.
Мы видели, что языком египетской души были формы подчиненной прасимволу пути строгой действительности: пирамиды, рельефы, иероглифы, государство и техника, тщательный церемониал и господствующий надо всем бодрствующим бытием культ мертвых. Поэтому у этой души не был "литературы", в особенности драмы большого стиля. Арабская душа создает образы более чувственно богатые, случайные, игривые, но бесформенные в монументальном смысле и потому столь же, хотя и в другом роде, в высшей степени абстрактные. Так как магическое мирочувствование не знает логики действительности, то искусство плоскостей и пространства теряет логику линий и пропорций; живопись и пластика древнехристианского византийского стиля медленно исчезают, и единственным средством выражения в конце концов остается арабеска, орнамент сарацинской эпохи.
Арабеска есть (что нередко упускают из виду) самый пассивный из всех орнаментов; она соответствует магической идее судьбы, "кисмет". В ней нет положительной выразительности, хотя она и произошла из высшей степени выразительного, во всех подробностях пластически определенного, оптически легко обозримого античного орнамента. Античные мотивы, например меандр или аканф, имеют эвклидовский характер, закончены в себе, телесно изолированы и могут поэтому только повторяться и нанизываться как отдельные слагаемые. Арабско-персидские узоры могут распространяться безгранично во все стороны, Романско-готический орнамент
304
являет максимум силы выражения, мечтательная арабеска
отрицает волю. Она действует внушением, которое можно найти в арабской музыке, в арабском танце и которое соответствует именно тому, что обозначается словом "магическое". Арабеска являет собой признак отрицательного – так как орнамент есть непосредственный документ образующей культуру душевной стихии - миронастроения, так же как алгебраическое число с эвклидовой точки зрения является отрицанием числа. Арабеска означает чрезвычайное обесценивание действительности, самостоятельное значение которой она отвергает и которую считает - вспомним об Альгамбре - достойной только небрежного вкушения; этот смысл арабески точно соответствует мирочувствованию первоначального христианства, гностики, культа Митры, неоплатонизма, удалению первых христиан от государства, и дошедшему до столпничества типу восточного отшельничества. Готический стиль растворяет материальность в пространстве, арабеска сливает и то и другое в неопределенной видимости. Поэтому государства калифов в Багдаде, Каире, Гренаде - по сравнению с государствами фараонов, Людовика XIV и Гогенцоллернов - суть отрицание сознающей свою цель государственной идеи, по отношению к которому наше ощущение сказочности вполне обосновано; вот почему лирика арабесок превращает архитектуру равеннских купольных построек в конце концов в полную прихотливость кордовской мечети; вот почему исчезают статуи и мозаика раннего времени и не существует арабской драмы. Существует гомология между мавританским искусством и рококо, но Моцарт, Пёппельман и Ватто, несмотря на всю их эфирную легкость, вливают веселую позднюю чувственность в максимально дисциплинированную, проработанную, строго продуманную форму, а строители замка М'шатта и Севильского Альказара уничтожают следы ее ради какой-то фантастической игры.
Эта тенденция, исключившая в течение времени все другие искусства и оставившая под конец только орнамент, намечается с самого начала. В эллинистическое время идеализирующая портретная пластика - типа статуи Софокла - переживает повсюду внезапный расцвет, за исключением Антиохии и Александрии, хотя именно там древнее искусство Вавилона и Египта создало значительную традицию. Вслед за запрещением со стороны Магомета человеческих изображений следует иконоборчество в христианской Византии *, хотя трактование человеческих форм в искусстве тогда
* Собственно иконоборчество продолжается в 725-824 гг.
305
уже находилось в упадке. Этот символический акт христианско-исламского мирочувствования повторяет, таким образом, только то, что уже было осуществлено формальной тенденцией магического искусства, растворившей все в лишенной телесности и образа арабеске. Следует указать, что нечто аналогичное наблюдается в иконоборческом движении в протестантских Нидерландах и в пуританской Англии, где как раз в эту самую эпоху музыка готовилась победить живопись. Готико-флорентийская пластика изжила себя в XVI в. Последние великие мастера масляной живописи умерли в конце XVII в. Здесь мы чувствуем весь смысл конца искусства. Новое откровение пространства, будь оно магическое или фаустовское, уже больше не оставляет места "картине". Прасимвол культуры выступает с возрастающей ясностью. Арабеска и музыка упраздняют все вещественное.
Следует отметить, в чем именно иконоборчество чувствует
недостаточность и против чего борется: на Западе оно выступает против всякого украшения и нарядности, против всего, что "конечно" и противоречит пространству; у арабов только против человеческого изображения, против принижения человека до вещи. Это то же самое мирочувствование, которое в 449 г. привело монофизитов к полному разрыву с восточной церквью; географические границы этого раскола, внутри которых он оказался неодолимым, точно совпадают со сферой позднейшей магометанской культуры между Багдадом и Каиром, но смысл его, как догматического прообраза ислама, совершенно еще не был отмечен. Страстные тогдашние споры о сущности личности Христа - магическая проблема его "двух естеств" - соответствуют тем почувствованным только, или вполне законченным и метафизически развитым возражениям, которые впоследствии выдвигались против пластического изображения человека, как сосуда божественной пневмы. Уже пластика и мозаики поздней императорской эпохи имевшие, как мы уже видели, арабское происхождение, позволяли предугадать такой конец. Магическое выражение портретов константиновской эпохи, умалявшее, так сказать, значение тела, подчинявшее его неподвижному господствующему надо всем взгляду и обесплотившее его, привело к созданию большего стиля, отвечающего гностическому и плот; невскому мирочувствованию. Оно заменило античный принцип свободно со всех сторон стоящего тела – фронтальным устанавливающим связь между духом изображаемого и зрителем. Это искусство погибло одновременно с окончанием раннего периода арабской культуры. Вследствие столь же глубоких причин ранняя пластика Запада, пластика соборов в
306
Бамберге, Наумбурге, Шартре, Реймсе и пластика Ренессанса Флоренции и Нюренберга погибли задолго до Палестрины и Тициана.
3
Храм Посейдона в Пестуме и Ульмский собор, произведения зрелой дорики и готики, различаются между собой, как Эвклидова геометрия тел, ограниченных поверхностями, и аналитическая геометрия положения точек в пространстве по отношению к координатам. Античное строительное искусство имеет своей исходной точкой внешнюю сторону здания, западное - внутренность. В древнехристианских базиликах центральной Сирии и Северной Африки, решительно порвавших с архитектурными идеями античности, мы чувствуем магически таинственное строение вполне замкнутого пространства. Это было первое сильное выражение новой души. Как только германский дух овладевает этим типом базилики, начинаются удивительное изменение положения и смысла всех архитектурных элементов, строгое проведение плана понижающихся боковых неф, а главное разработка бесконечно важной для символики собора поперечной нефы, которая дает меру средокрестия и определяет строфическое расчленение и движение внутреннего пространства церквей. Здесь, на фаустовском Севере, начиная с этого времени, внешний вид всех зданий, как соборов, так и жилых домов, вполне подчиняется принципу, легшему в основу расчленения внутреннего пространства. Мечеть молчит об этом расчленении, храм не знает его. Недостаточно было учтено, что мотив фасада,
архитектура которого физиогномически отражает внутренность здания, так же чужд античности, как и арабскому миру, а у нас он проведен не только в больших отдельных зданиях, но и господствует в общей картине наших улиц, площадей и городов.
Эллинский храм задуман и исполнен как массивное тело.
Другой возможности не представлялось для действующего
здесь чувства формы. Поэтому история античного изобразительного искусства была беспрерывной работой над усовершенствованием единственного идеала, над покорением свободно стоящего человеческого тела как сущности чистой, вещественной наличности. Пафос этой прошедшей через столетия тенденции совсем не был понят. До сих пор никто не чувствовал, что и архаический рельеф, и коринфская вазовая живопись, и аттическая фреска все время имели своей единственной целью это чисто вещественное, бездушное тело,
307
????, пока, наконец, Поликлет и Фидий не научили способу
совершенно овладеть им. Этот вид пластики с удивительной
слепотой признали для всех обязательным и всюду возможным, пластикой вообще и писали ее историю и теорию, вводя сюда народы всех времен и всех стран; а наши скульпторы проповедуют и поныне, под впечатлением принятых на веру догматов Ренессанса, что нагое человеческое тело есть самая благородная и настоящая тема изобразительного искусства. Кажется, никто и не заметил, как редок этот вид искусства, что это только частный случай, исключение, а ни в коем случае не правило. Действительно, этот вид статуарного искусства, ставящий свободно на плоскости нагое тело, со всех сторон его прорабатывающий, существовал только однажды, а именно в античном мире, и только там, потому что существовала одна только античная культура, вполне отрицательно относившаяся к преодолению чувственных границ ради пространства. Египетская статуя всегда была рассчитана на фронтальность, являясь вместе с тем видоизменением плоского рельефа, и кажущиеся антично задуманными статуи Ренессанса - если сосчитать их, то их окажется поразительно мало *, - не что иное, как реминисценция.
Эта аполлоновская пластика - параллель к эвклидовской математике. Они обе отрицают чистое пространство и видят в телесной форме a priori созерцания. Эта пластика не знает ни указывающих в даль идей, ни личностей, ни исторических событий, а только заключенное в самом себе существование ограниченных поверхностями тел. Припомним, что слово " ???? " употребляется греческими математиками для обозначения стереометрических образований, физиками - для обозначения субстанции, а в "Эдипе" Софокла - обозначения личности.
Развитие этого беспространственного par excellence искусства наполняет три столетия, 650-350 г., начиная от завершения дорики, которое совпадает с появлением тенденции к освобождению фигуры от фронтальной египетской связанности (Аполлон Тенейский, вскоре после 650 г.) до начала эллинизма, с его иллюзионной живописью, которой заканчивается большой стиль. Эту пластику можно оценить по достоинству только если признать ее последним и наивысшим античным искусством, вышедшим из фресковой живописи и победившим ее. Конечно, техническое ее начало можно выводить из попыток обработать в виде фигуры дорическую деревянную
* Донателло еще не ушел от готики, Микеланджело уже чувствует, как человек эпохи барокко, т.е. музыкально.
308
колонну (Гера Херамия) и металлическую пластинку стенной обшивки деревянного храма (Артемида Никандры). Как идеал формы, однако, аттическая статуя начинается с отдельной фигуры фрески. Она никогда не утратила следов этого происхождения. Язык ее образов в самом тесном родстве с четырехкрасочной живописью Полигнота, причем она никогда не могла полностью освободиться от ее принципов. Вспомним о полихромной окраске мрамора - о которой не ведали Гёте и Ренессанс и сочли бы ее варварской * - о статуях из золота и слоновой кости и эмалевых украшениях на естественно отливающей золотыми тонами бронзе. Отливка из бронзы решительно взяла верх над применением раскрашенного мрамора в эпоху расцвета.
Античное число - величина, мера - близко соответствует языку форм вазовой живописи краснофигурного стиля и позднейшей фреске. Планиметрия в особенности подходит к строгому плоскому стилю Полигнота, который не знал ни света, ни теней, ни перспективы. Это искусство есть органическая первая ступень скульптуры. Оно отнюдь не существует наряду с ней. Еще в 475 г. не было равноценного Полигноту скульптора, так же как в 1650 г. рядом с Рембрандтом не было музыканта одинакового порядка. Только последнее столетие дало победу строгому искусству в обеих культурах. Поликлет, ученик Полигнота, создал канон нагой статуи. Около 1740 г., когда все великие мастера масляной живописи умерли и Бах был в расцвете своей силы, был закончен строгий канон 4-частной сонатной фразы. Оба они знаменуют максимум формы, которого вообще возможно было достигнуть, идя от прасимволав первом случае тела, во втором - пространства. Оба удерживают свое значение вплоть до Скопаса и Бетховена, которые находятся на границе культуры и цивилизации и уже не справляются с большим стилем Лисипп и Вагнер разрушили этот стиль.
Пифагорейцы создали, начиная с 540 г., геометрию тел; Декарт, Ферма и Паскаль, начиная с 1620 г., создали геометрию пространства. Таким образом, построенная на абсолютном значении плоскостей и тел аттическая вазовая живопись гомологична и стоит рядом с перспективным искусством пространства масляной живописи, и сцены вазы Франсуа (ок.570 г.) -рядом с ландшафтами Лоррена (1600- 1682). Одни творили людей без заднего плана, другие, напротив, задний план без людей (человек тут играет роль только "аксессуара").
* Определенное предпочтение белого камня показательно, как признак различия переживаний античности и эпохи Ренессанса.
309
Аполлоновское переживание глубины понимает протяженность как тела без пространства, фаустовское – как пространство без тел.
Близкородствен фреске и потому крайне противоположен
тенденции Рембрандта горельеф - бессвязное соединение, а
отнюдь не богатая внутренними отношениями группа тел, стереометрически приставленных к заднему плану. Без сомнения, здесь Египет послужил образцом, идя от которого поиск выражения собственных возможностей привел к прояснению формы. Но искусством, отвечающим египетскому мирочувствованию - прасимволу дороги, - был плоский рельеф, который, путем знаменательного разложения становящегося пространства на плоскость и глубину, на чувственное восприятие и живое движение зрителей, выражаясь религиозно - на случай и неизбежность, допускает в стенной картине только длину и высоту, тогда как глубина, "третье измерение", выражается при помощи определяющего направление расчленения самого здания. Следствием этого было то, что рельеф со своими следующими одна за другой сценами (античный всегда статичен) избегает даже намека на трехмерную телесность и, наконец, достигает на этом пути странной формы углубленного рельефа (relief en creux), особенно в эпоху XVII династии, которому - если не обращать внимания на одно-единственное, но весьма показательное исключение древнекитайского искусства - нет примера на всем свете и который представляет крайнюю форму бестелесной пластики двух измерений.
В то время как египетская статуя была прислонена к стене, а готическая, даже статуи Донателло, становится вполне понятной только как архитектонический мотив, например в сочетании с пространством ниши, эллинская статуя во все времена стояла свободно на плоской поверхности. Это единственный, не повторенный даже Ренессансом, пример художественного произведения, которое можно осматривать со всех сторон, а не только со стороны, выбранной художником. Такого произведения искусства требовало миропонимание такого космоса, в котором все отдельные предметы видимы и расположены одинаковым образом, не будучи стеснены в своей сущности какими-либо (неизбежно пространственными) взаимоотношениями. Избрать определенное местоположение целью развить желаемое впечатление - значит вносить пространственное взаимоотношение между зрителем и произведением в язык форм последнего. Но геометрия Эвклида не знает "функций". Равным образом и фронтальные группы эллинских храмов, если не вносить в них насильственно своего
310
толкования, представляют собой исключительно экономическое заполнение пустого пространства отдельными мотивами.
Благодаря этому вся совокупность античных искусств приобретает одну общую тенденцию, в жертву которой, по мере приближения зрелости, приносятся значение, объем и самое дальнейшее существование отдельных искусств. У Гомера ничего не говорится о статуях богов. Трудно себе представить, насколько был совместим с ними ранний дорический дипилоновый стиль. Позднее на древнеаттических погребальных вазах появляются мифические сцены. Древнеионическая вазовая живопись Милета и Самоса знала сюжетные сцены и изображения битв (этим славился живописец Буларх). Но потом начинается сокращение возможностей. Большая символика аполлоновской души выбирает и устраняет. Дорийский периптерос и академическое изображение нагого тела допускают одинаково мало вариаций. Полигнот достигает в этих строгих границах вершины художественной выразительности и исчерпывает ее. Его искусство чисто линейное, без переходов, без взаимодействия света и теней, без заднего плана. Он помещает на плоскости одной и той же картины беспорядочное множество сцен, не связанных между собой никакими взаимоотношениями в смысле пространственной перспективы. Каждая фигура стоит отдельно. Пространство между ними, атмосфера есть "?? ’??" и поэтому не подлежит никакому художественному изображению. Грек игнорирует тот факт, что далекие предметы кажутся маленькими, он вообще игнорирует даль и горизонты. Статуя есть экстракт близкого, беспространственного, оптически исчерпываемого. Она знаменует центр тяжести античного искусства. Драма по ее образцу стала искусством знаменитых трех единств, прежде всего единства места, представляющего собой принцип статуарности. Сцены античной трагедии задуманы в стиле фресок. Эллинская музыка стала пластикой тонов, без полифонии и гармонии, выражающих звуковую пространственность, и как самостоятельное искусство лишилась глубоких возможностей. В то время как на Западе она достигла первенства среди всех прочих искусств, в Афинах значение ее пало до простого аккомпанемента других искусств, как-то: танца и драмы.
4
Соответствующая фаза западного искусства наполняет три
столетия - от 1500 до 1800 г., от поздней готики до упадка
рококо и вообще конца фаустовского стиля. В это время, со-
ответственно все усиливающемуся проникновению в сознание
311
стремления к пространственной трансцендентальности, полифонная инструментальная музыка развивается до положения господствующего искусства. Пластика с возрастающей решительностью подвергается отстранению от глубоких возможностей этого мира образов.
Отличительные признаки живописи до и живописи после
ее перенесения из Флоренции в Венецию, живописи Рафаэля
и Тициана, как двух совершенно различных искусств - это
пластический дух одной, ставящей ее произведения рядом с
рельефом, и музыкальный дух другой, ставящий ее технику,
работающую мазками и световыми эффектами, рядом с искусством фуги. Для того, чтобы понять организм этих искусств, необходимо проникнуться мыслью, что мы имеем перед собой не постепенные переходы, а полную противоположность. Именно здесь было бы опасным принятие стационарности "отдельных областей искусства". Живопись только слово. Готическая пластика и живопись были составной частью готической архитектуры. Они служили ее строгой символике, подобно тому как ранее египетское, ранее арабское, как всякое другое искусство, служит на этой стадии языку камня. Строили одетые фигуры так же, как строили соборы. Складки были орнаментом высокой интенсивности и выразительности. Критиковать их "неподвижность" с натуралистически-подражательной точки зрения - значит идти ложным путем. С другой стороны, живопись Ренессанса есть в высшей степени сложный частный случай, характеризуемый с внешней стороны, касающейся технических условностей, антиготической тенденцией, но в глубине имеющий совершенно иные устремления.
Музыка тоже неопределенное слово. Музыка существовала
везде и всюду, даже до появления всякой действительной культуры. Все эти искусства сами по себе свойственны первобытному человеку. Есть человеческие рисунки ледникового периода, есть сценические игры, поэзия и музыка первобытных народов всех частей света. Они представляют собой хаос смутных возможностей, пока их не коснется душа пробуждающейся культуры, не разовьет из них с бурной неудержимостью гигантскую группу видов искусств высокого стиля - исключительно отдельных видов искусств и миров форм, имеющих преходящее бытие и никогда вновь не повторяющихся, юных, зреющих, дряхлеющих, умирающих, полных своими преданиями и значением, причем каждый окрашен цветом своего единственного прасимвола. Античная музыка, не имевшая никаких точек соприкосновения с принципом материальной протяженности, так и осталась в существенной своей части
312
первобытной. Но здесь, в фаустовской культуре, от корней
прадушевных возможностей возникает, как нечто совершенно
новое, контрапунктная инструментальная музыка, искусство чистое, самобытное, затеняющее все соседние искусства и с возрастающей силой растворяющее в себе все другие.
В истории найдется мало феноменов, обладающих столь
поразительной прозрачностью, как развитие западной музыки.
Одновременно с возникновением романского стиля в
X столетии полифония начинает растворять одноголосое параллельное следование "церковных напевов" *. Введение 2-го голоса (dis-cantus) приписывают бенедиктинцу Гукбальду. Значительную роль играет английское (кельтское) влияние, и мне кажется, что мы имеем здесь многозначительную параллель к одновременному завершению сказаний о короле Артуре, составляющих значительную часть фаустовского мифа, как-то: сказания о Рыцарях Круглого Стола, о Граале, Парсифале и Тристане. Это древнейшие кельтские мотивы, ассимилируемые германским миром чувствований и мыслей. Следует отметить музыкальность этого материала, расплывчатость образов, безграничность чувств и горизонтов и полную их противоположность узко очерченной пластичности Гомеровского мира.
Строгий контрапункт - это название (punctus contra punctum) стали применять к "Ars nova" приблизительно начиная с 1330 г. - возник вслед за введением терц и секст в XIV столетии, притом в Бургундии и Нидерландах, родине масляной живописи и готического стиля. Это общее происхождение из одной местности трех больших фаустовских миров форм имеет громадное значение. Здесь мы прикасаемся к последней тайне всего человеческого, к связи души с матерью-землей, из которой, согласно всем мифам, она рождается и в которую возвращается. Дальше вскрывается внутренняя идентичность этой формы искусства с соответствующим принципом числа. Искусство фуги представляет собой полную параллель к аналитической геометрии. Координаты были введены Николаем Оресмом, епископом Лизье (1323-1382), как раз в то время, когда великий нидерландец Генрих Зеландский (ок. 1330-1370) сделал стиль фуги твердым основанием большого искусства. С этих пор язык тонального пространства переживает мощное развитие в близком с перспективным пространством картины. В лице Орландо Лассо
* В полном согласии с этим с Х столетия начинается искусство рифмованного стиха, также чисто западное и близко родственное стилю фуги.
313
(1532-1594) он достигает вершины своих возможностей. Он
приобретает способность - в форме строгого песнопения, в
формах кантат (мессы, пассии, мотетты) - выражать всю
фаустовскую душу, ее мирочувствование, всю ее судьбу.
Когда затем Ньютон и Лейбниц - начиная с 1660 г. -
создали счисление бесконечно малых, "соната", чистая инструментальная музыка, победила "кантату". Это была победа бесконечного пространства звуков и функции над остатками
осязаемости и телесности - в одном случае человеческого голоса, в другом - линейных координат. Элементы близости исчезают, даль побеждает. Путь от пения к бесплотным звукам оркестра соответствует пути от геометрического анализа к чисто функциональному. Сначала возникает некоторое количество маленьких инструментальных сочинений, имеющих характер танца и маршей, все эти гавоты, гайарды, сарабанды, паваны, жиги, менуэты. Образуется "оркестр". Потом в 1660 г., беря свое начало от музыки на лютне, возникает большая форма сюиты, циклическая группа коротких музыкальных произведений.
Все подробности этого развития могут быть сопоставлены с
примерами из одновременной математики. Растяжение в бес-
конечность звукового тела, вернее, его растворение в бесконечном звуковом пространстве, внутри которого фугированный стиль заставляет действовать свои образы, отмечается развитием инструментовки, привлекающей все новые инструменты, продолжающей обогащать и разнообразить оркестр и отыскивающей все более "отдаленные" звуки, краски и диссонансы. Уже Монтеверди - вскоре после 1600 г. - отважился ввести доминантсептаккорд. В "concerto grosso" звуковая масса большого оркестра вступает в "continue" по отношению к звуковой массе "concertino" (струнных инструментов), в своеобразное взаимодействие, которое можно наглядно уяснить себе, пожалуй, только при помощи аналогичных представлений высшего анализа. Для нас это искусство естественно обладает высокой духовной отчетливостью. Грек с удивлением созерцал бы это фантастическое порождение своеобразной потребности выражения. Звуковое тело или звуковое пространство суть образования столь же трансцендентные и в эвклидовском смысле столь же "недействительные", как оптически невоспроизводимое числовое тело и пространства многих измерений, как множества и группы учения о множествах. В 1740 г., когда Эйлер положил начало окончательной формулировке функционального анализа, возникает соната, самая зрелая и высшая форма инструментального стиля. (Рядом с сонатой для сольных инструментов отдельными формами
314
того же стиля являются симфония, концерт, увертюра и
квартет.) Ее четыре части, из которых первая заключает в
себе строго установленное видоизменение трех тем, образуют
систему такой же мощной логики формы, как и абсолютной
"потусторонности". Начало сонаты идет от формальных возможностей струнной музыки, самой для нас искренней и задушевной (Корелли, Тартини, Штамиц принимали участие в ее развитии), и как скрипка, несомненно, представляют собой самый благородный инструмент, который изобрела и разработала для себя фаустовская музыка, так же, несомненно, в струнном квартете и в родственных ему формах композиции сосредоточены глубочайшие и святейшие моменты полного просветления этой музыки. Здесь, в камерной музыке, западное искусство достигает вершины своего развития. Символ чистого пространства, самый потусторонний из всех символов, достигает здесь совершенства выражения в той же мере, как чисто земной символ - символ совершенной телесности - в аттической бронзовой статуе. Когда одна из этих несказанно страстно-тоскливых мелодий скрипки одиноко и жалобно блуждает в пространстве, которое создают вокруг нее звуки "tutti" у Гайдна, Моцарта, Бетховена и великих итальянцев, тогда перед нами то единственное искусство, которое можно поставить рядом с чисто аполлоновским, как оно выражено в "Афине Лемнии" Фидия.
В то время музыка получает господство над всеми искусствами. Она изгоняет пластику статуи и оказывает снисхождение только совершенно музыкальному, утонченно-неантичному, противоречащему духу Ренессанса малому искусству фарфора, изобретенному в ту же эпоху, когда камерная музыка достигла своего решающего значения. В то время, как готическая пластика представляет собой сплошной архитектонический орнамент и человеческий узор, рококо есть удивительный пример мнимой пластики, покоренной фактически языком форм музыки, ее противоположности в кругу искусств. Здесь видно, до какой степени может противоречить господствующая над внешностью художественной жизни техника духу созданного ею мира образов, - каковые два фактора, однако, общепринятая эстетика связывает между собой как причину и действие. Сравним сидящую на корточках Венеру Куазево (1686 г.) в Лувре с ее античным образцом в Ватикане. Это - пластика как музыка и пластика в собственном смысле слова. Этот род подвижности, текучести линий, текучесть самого камня, потерявшего, подобно фарфору, некоторым образом свое твердое агрегатное состояние, лучше всего описывать музыкальными терминами: staccato,
315
accelerando, andante, allegro. Отсюда вытекает то чувство, как
будто зернистый мрамор здесь неуместен. Отсюда совсем не
античный расчет на свет и тени. Это соответствует руководящему принципу масляной живописи, начиная с Тициана. То, что в XVIII в. называют красочностью - гравюры, рисунка. пластической группы, - означает музыкальность. Она господствует в живописи Ватто и Фрагонара, в искусстве гобелена и пастели. Не говорим ли мы с тех пор о тонах красок и звуковых красках? Не признана ли этим достигнутая, наконец, однородность двух по внешности столь различных искусств? И не лишены ли всякого основания эти обозначения в отношении любого из античных искусств? Но музыка также преобразовала в своем духе архитектуру Берниниева барокко в рококо, в трансцендентальной орнаментике которого играют свет и тени - тона - и растворяют в общей полифорнии и гармонии потолок, стены, арки, все конструктивное и действительное, причем тремоло, кадансы и пассажи этой архитектуры окончательно устанавливают идентичность языка форм этих зал и галерей и изобретенной для них музыки. Дрезден и Вена - родина этого позднего, быстро иссякнувшего чудесного мира камерной музыки, причудливо изогнутой мебели, зеркальных комнат, пастушеской поэзии и фарфоровых групп. Это последнее, по осеннему солнечное, совершенное выражение западной души. В Вене, во время Конгресса, оно угасло.
5
Ренессанс, рассматриваемый с этой точки зрения - которая, однако, далеко не исчерпывает его содержания – есть протест против духа этой фугированной фаустовской, похожей на лес музыки, которая готовилась распространить свою диктатуру на весь язык форм западной культуры. Он вышел последовательно из зрелой готики, в которой ясно выступало это стремление. Ренессанс никогда не утратил этих следов своего происхождения и, еще в большей степени, характера простой реакции, существенные черты которой неизбежно остались зависимыми от форм исконного движения; Ренессанс, следовательно, выражает собой сопротивление этому движению со стороны колеблющейся души. Вследствие этого он лишен настоящей глубины, при этом в двояком смысле - глубины идеи и глубины явления. Что касается первой, то достаточно вспомнить ту неудержимую страстность, с которой готическое мирочувствование проявляйтесь по всем западным странам, чтобы почувствовать, каково в
316
действительности было это движение Ренессанса, вышедшее в 1420 г. из маленького круга избранных умов, ученых, художников и гуманистов. Там речь идет о бытии или небытии новой духовности, здесь вопрос вкуса. Готика охватывает всю жизнь до самых ее сокровенных уголков. Она создала нового человека, новый мир. Она заставила говорить языком одной общей символики все: католичество и государственную идею германской империи, рыцарские турниры и внешний вид только что возникших городов, соборы и крестьянскую хижину, склад языка и венчальный убор деревенской девушки, масляную живопись и песню странствующего музыканта. Ренессанс овладел некоторыми искусствами и этим ограничился. Он ни в чем не изменил образа мышления и мирочувствования Западной Европы. Он проник в костюм, внешние манеры, но не в корень существования. Ренессанс не произвел гениальной личности между Данте и Микеланджело, которые оба не вполне вмещаются в его границы. Что же касается второго, т.е. глубины явления, то даже во Флоренции Ренессанс не коснулся народной души, в глубине которой готическое музыкальное подводное течение - и это одно только делает нам вполне понятными появление Савонаролы и его необычайную власть над душами - продолжает спокойно стремиться к барокко.
Ренессансу, как антиготическому и враждебно настроенному против духа инструментальной музыки движению, соответствует в античном мире дионисийское движение, как антидорическое и противоположное пластически-аполлоновскому мирочувствованию. Это движение не вышло из фракийского культа Диониса. Оно выставило этот последний как оружие и символ, противоположный олимпийской религии, совершенно так же, как во Флоренции призвали на помощь культ античности для оправдания собственного чувства. Движение протеста имело место в Греции между 700-600 гг. и в Европе, следовательно, между 1400-1500 гг. В обоих случаях дело идет о душевной борьбе, о разладе в самих основах культур, нашедшем свое физиогномическое выражение в целой эпохе исторической картины, прежде всего в ее художественном мире форм, о борьбе души против своей судьбы, которую она поняла в полном объеме. Внутренне противоборствующие силы, вторая душа Фауста, которая хочет отделиться от первой, стремится перегнуть в другую сторону смысл культуры; неминуемая неизбежность должна быть опровергнута, упразднена, обойдена; в этом страх перед завершением исторической судьбы, ведущей к ионике и барокко. В Греции протест души избирает исходной точкой культ
317
Диониса, с его музыкальным, враждебным действительности,
расторгающим тело оргиазмом; на Западе - литературную
традицию "Древнего Мира" и его культ пластики, которые
оба привлекаются в качестве чуждых факторов с тем, чтобы с
помощью покоряющей силы их противоположного языка
форм дать угнетенному чувству внутренний вес и собственный пафос и таким образом поставить преграду течению, которое ведет, в первом случае от Гомера и геометрического стиля к Фидию, во втором - от готических соборов через Рембрандта к Бетховену.
Вследствие свойственного Ренессансу характера реакции,
оказывается столь же легко определить то, против чего он борется, как, с другой стороны, трудно установить, чего он добивается. В этом подводный камень всех исследований Ренессанса. В готике (и дорике) дело обстоит как раз наоборот. Готика борется за известный предмет, а не против чего-нибудь. Но искусство Ренессанса, в сущности, антиготическое искусство. Музыка Ренессанса есть "contradictio in adjecto". До сих пор все ясно. Остальное готовит немало трудностей.
В самом деле, оценка этого феномена показывает, насколько легко можно смешать громко высказанное намерение с глубоким смыслом движения. Критика, начиная с Буркхардта, отвергла отдельные суждения руководящих умов относительно тенденций Ренессанса, но после того, как это было сделано, она продолжала употреблять название Ренессанс в прежнем оптимистическом смысле. Конечно, различие в архитектонике, в общем художественном облике поражает, как только перейдешь через Альпы. Но именно потому, что это чувство слишком популярно, ему не следует доверять и надо себя спросить, не смешиваем ли мы часто разницу между севером и югом внутри одного и того же мира форм с различием между готикой и античным. Если спросить человека непосвященного, относится ли к готике большой монастырский двор Санта Мариа Новелла или фасад палаццо Медичи, он, наверное, не угадает. В противном случае мгновенное превращение впечатления должно бы начаться не при переходе через Альпы, а по ту сторону Аппенин, потому что Тоскана даже среди Италии есть художественный остров. Верхняя Италия - это область византийски окрашенной готики, Рим - уже город барокко. Однако изменение впечатления следует одновременно с переменой картины ландшафта.
Фактически Италия не переживала вместе с остальной Европой рождения готического стиля. Она находилась в 1000 г. под безусловным господством восточных форм искусства. Только уже зрелая готика пустила здесь корни, но, как
318
климатически смягченное, чужеземное заимствование, она ассимилировала или вытеснила не так называемые остатки античности, а исключительно византийско-сарацинский язык форм, который пришел с Востока и к кругу которого принадлежат Равенна, Лукка, Пиза, Венеция и такие, имевшие огромное влияние постройки, как мечетеобразный Пантеон и Сан-Марко, а также, по композиции и по духу, Сан-Миниато и Баптистерия во Флоренции.
Если бы Ренессанс был возрождением античного мирочувствования - но что это означает? - то он должен бы был заменить культ замкнутого и ритмически расчлененного пространства культом массивного архитектурного тела. Но об этом никогда не было речи. Напротив, Ренессанс исключительно культивирует архитектуру пространства, которую он унаследовал от готики, только дух этого пространства, его ясное ровное спокойствие, в противоположность бурным порывам, дикой подвижности Севера, иные, именно южные, солнечные, беззаботные и доверчивые. Противоречие только в этом. Эта архитектура почти вся сводится к фасадам и дворам.
Но сосредоточение зодческой мысли на такой внешней
стороне, которая отражает дух внутренней структуры, специально северное явление и в глубине родственно искусству
портрета, а внутренний двор - начиная от храма Солнца в
Баальбеке до Львиного двора в Альгамбре - явление специфически арабское *. Храм Пестума, весь телесность, оказался
* Я хотел бы, в качестве предположения, предложить па обсуждение, не вышла ли базилика, происхождение которой не удается вывести никакими комбинациями из какого-либо античного архитектурного типа, вообще не из дома, а из идеи окруженного колоннами внутреннего двора. В таком случае приходится говорить о закрытом дворе впереди храма, где собираются верующие во время совершения сакрального действия. Новое магическое чувство пространства потребовало его перекрытия и создало, таким образом, "среднюю нефу" церкви, и тогда уже, вследствие внешнего сходства с общественно полезными зданиями больших городов, появилось в греческой литературе название базилики. Метафизический инстинкт страны, в которой культовые постройки всех религий имели тогда большую внутреннюю близость, говорит положительно за это. Расположение атриума, корабля, алтаря следовало бы в таком случае толковать как обычные в семитическом мире притвор, передний двор и храм. Многие подробности, как-то: строгое разделение нефы и апсиды, возвышенное положение последней, так как к ней вели ступени, далее ориентация только средней нефы на апсиду, тогда как боковые нефы, которые все еще продолжают играть роль "окружения", боковых зал, упираются в глухую стену, только таким образом получают естественное объяснение. Надо иметь в виду, что создание такого типа высокой символики совершается вполне бессознательно. Психологически неверно предполагать здесь, в Сирии, такой рационалистический путь, какой рисовали себе, выводя тип христианской
319
бы совершенно одиноким среди этого искусства. Также и
флорентийская пластика - совсем не свободная круглая пластика в аттическом смысле. За всякой ее статуей еще чувствуется невидимая ниша или стена, для которой готическая пластика комбинировала настоящий прообраз этой статуи.
Если определить из совокупности образцов, которым следовал Ренессанс, все то, что возникло после Августовского времени и принадлежит, следовательно, к магическому миру форм, то буквально ничего не остается. Даже созданные семитами постройки императорского времени, термы, храмы, форумы, не оказали существенного влияния. Тем сильнее влияла Византия. Я уже указывал на тот решающий факт, что мотив, господствующий именно в Ренессансе и считающийся у нас благодаря своему южному происхождению за благороднейший признак Ренессанса, а именно соединение круглой арки с колонной, во всяком случае совершенно не готическое, но также совершенно не существовавшее в античном стиле, представляет собой скорее возникший в Сирии лейтмотив магической архитектуры. Когда, действительно, в конце кваттроченто некоторые мастера начали копировать строго античные формы и академически осуществлять содержание римских сочинений, тогда само движение уже внутренне было закончено. Не оно покорило Север и создало барокко. Стиль барокко, законченное наследие готики, присвоят себе и использовал формы Ренессанса.
Итак, все "антиготическое" в Ренессансе имеет византийское или сарацинское происхождение; весь церковный стиль Италии - а искусство без отношения к церкви в ту эпоху едва ли мыслимо - происходит из мест с арабским чувством форм. И тут как раз с севера пришло то решающее влияние, которое помогло на юге совершить шаг от готики к барокко. В фламандско-бургундских странах (противоположный полюс Тосканы по развитию стиля), между Парижем *, Амстердамом и Кельном, около 1400 г. одновременно сложились искусство контрапункта и искусство масляной живописи, первое – в работах Генриха Зеландского, Дюфэ и Окегема, второе – в творчестве Яна Ван Эйка и Рожье Ван-дер-Вейдена. В 1428 г. Дюфэ вступил в папскую капеллу и около 1450 г. Рожье был в Италии и оказал там значительное влияние на флорентийских мастеров. Антонелло да Мессина, перенесший около
базилики, из частных базилик Рима. Религиозное мирочувствование не комбинирует столь предметно.
* Париж входит в тот же круг. Еще в XV столетии там говорят столько же по-фламандски, сколько и по-французски. Париж в старшей части своей архитектурной внешности связан с Брюгге и Гентом, а не с Труа и Пуатье.
320
1470 г. масляную живопись в Венецию, был учеником фламандца. Как много нидерландского и мало "античного" в картинах Филиппе Липпи, Гирландайо и Ботичелли, в особенности Поллайоло! Как много обязана римская и венецианская школа мастеру Вилларту из Брюгге (1515 г. в Риме), изобретателю мадригала! Из Фландрии и Брабанта проникает в ломбардскую готику, которая уже была готова благодаря усвоению восточно-южных форм стать в противоречие к северному духу, именно тот элемент северного чувства бесконечности, который должен был снова изменить художественный дух Ренессанса и вернуть его с помощью барокко в большое течение.
Как раз тогда Николай Кузанский, кардинал и епископ Бриксенский (1401-1464), ввел в математику принцип бесконечно малых, этот контрапунктический метод чисел, который он вывел из идеи Бога как бесконечной сущности. Он навел Лейбница на мысль о дифференциальном счислении. Но этим он также уже выковал оружие динамической ньютоновской физике барокко, с помощью которой она победила статическую идею южной физики, связанной с именем Архимеда и действовавшей еще в работах Галилея.
Высокий Ренессанс - это эпоха кажущегося вытеснения
музыки из фаустовского искусства. Во Флоренции, единствен-
ном месте, где западная культурная область соприкасается с
античной, в течение нескольких десятилетий с помощью великого акта чисто метафизического сопротивления поддерживался образ античности, обязанный готике всеми своими глубокими чертами, не исключая отрицания. Образ этот сохранил свое значение для Гёте и вплоть до наших дней таким же является и нашему чувству, хотя опровергнут уже нашей критикой. Флоренция Лоренцо Медичи и Рим Льва Х – для нас античны, это вечная цель нашего тайного тоскливого желания; только это освобождает нас от всякой тяжести, всякой дали, только потому что антиготично. Так строго выражена противоположность аполлоновской и фаустовской духовности.
Но не следует заблуждаться относительно масштабов этой
иллюзии. Во Флоренции культивируют фреску и рельеф в
противоречие готической оконной живописи и арабской мозаике на золотом фоне. Это был единственный период на Западе, когда скульптура обрела статус самостоятельного искусства. В картине доминируют группы, тела, тектонические элементы архитектуры. Задний план не имеет собственного значения и служит только как фон для наличной осязательности фигур переднего плана. Здесь живопись была некоторое время под владычеством пластики. Верроккьо, Поллайоло и
321
Ботичелли были ювелирами. Но тем не менее в этих фресках
нет духа Полигнота. Здесь повторяется то, на что я указывал
выше относительно архитектуры. Великое дело Джотто и Мазаччо, создание фресковой живописи, есть только кажущееся возрождение старого способа чувствования. Лежащее в основе
его переживание глубины и идеал протяженности не есть аполлоновское внепространственное, заключенное в себе тело, но готическое пространство картины. Как ни отступает значение заднего плана, он все-таки присутствует. Но опять только здесь, в Тоскане, полнота света, прозрачность, полуденное великое спокойствие юга превращает динамическое пространство в статическое. Если и писали пространства картин, то переживали их не как безграничное музыкально движущееся бытие, а только со стороны чувственного ограничения. Их как бы наделяли телесностью. Культивировали, приближаясь в этом действительно к эллинскому идеалу, рисунок, резкие контуры, ограничивающие тело поверхности, - только здесь они ограничивали перспективное пространство от предметов, в Афинах же отдельные предметы от пустоты; и в той же мере, как сглаживается волна Ренессанса, снова ослабевает резкость этой тенденции, и sfumato Леонардо, слияние контуров с задним планом, возводит идеал музыкальной живописи на место рельефообразной. Равным образом нельзя игнорировать скрытую динамику тосканской скульптуры. Напрасно стали бы искать в Аттике параллель статуе всадника Верроккьо. Это искусство было маской, жестом, иногда комедией, но никогда еще комедия так хорошо не разыгрывалась. Перед невыразимо искренней чистотой форм забываешь о преимуществе готической исконной силы и глубины. Но надо вновь повторить: готика есть единственное основание Ренессанса. Ренессанс ни разу не касался настоящей античности, и не может быть и речи о том, что он понял или "снова пережил" ее. Находящееся под литературным впечатлением сознание маленькой избранной группы людей придумало это обольщающее название - возрождение античности, - чтобы дать положительный облик отрицательному движению. Оно доказывает, как мало знают о себе подобные течения. В нем не найдется ни одного великого произведения, которого современники Перикла и даже Цезаря не сочли бы совершенно чуждым себе. Эти дворы дворцов – мавританские дворы; дугообразные арки на стройных колоннах - сирийского происхождения. Чимабуэ учил своих современников копировать кистью искусство Византийской мозаики. Из двух знаменитых куполов Ренессанса купол Флорентийского собора работы Брунеллески - образцовое произведение поздней
322
готики, а купол св. Петра - строгое барокко. И когда Микеланджело дерзнул "воздвигнуть Пантеон на базилике Максенция", он выбрал две постройки чистейшего раннеарабского типа. А орнамент - но есть ли вообще настоящий орнамент Ренессанса? Я вижу в ранних флорентийских мотивах Майано Гиберти, Пизано нечто очень северное. Во всех этих кафедрах, надгробных памятниках, нишах, порталах надо, конечно, отличать внешнюю передаваемую форму - например, ионическая колонна сама египетского происхождения – от духа языка форм, усваивающего внешние формы как средство и знак. Все античные детали ничего не значат, поскольку они в способе своего применения выражают нечто неантичное. Но у Донателло они почти не встречаются. У всех мастеров этого времени они гораздо реже, чем в высоком барокко. Найти строго античную капитель вообще оказывается невозможным.
И тем не менее на несколько минут удалось осуществить нечто чудесное, чего нельзя передать музыкой - чувство счастья совершенной близости, чистого, покоящегося, освобождающе действующего пространства в простых отношениях светлых расчленений, свободных от страстного движения готики и барокко. Это не античность, потому что античность не знает пространства, но это сон об античном бытии, единственный, который снился фаустовской душе, в котором она могла забыться.
6
И только в XVI столетии начинается решительная фаза
западной живописи. Опека со стороны архитектуры на севере,
со стороны скульптуры на юге прекращается. Живопись делается полифонной, устремляясь в бесконечность. Краски делаются тонами. Искусство кисти покоряется стилю фуги. Техника масляных красок делается основанием искусства, стремящегося создать пространство, в котором теряются предметы. С Леонардо начинается импрессионизм.
В картинах производится благодаря этому переоценка всех
элементов. Игравший до сего времени безразличную роль,
служивший средством заполнения, я бы сказал, бывший скрытым пространством, задний план приобретает значение. Начинается развитие, которое не имеет себе подобного ни в какой другой культуре, не исключая даже во многих других случаях родственной культуры - китайской: задний план, как знак бесконечного, преодолевает телесно осязаемый передний план. Наконец удается - это живописный стиль в противоположность графическому - заключить переживание
323
глубины фаустовской души все без остатка в переживание
картины. В картине появляется горизонт, как великий сим-
вол вечного, безграничного мирового пространства, которое
заключает в себе отдельные видимые предметы как случайности. Необходимость его наличия в ландшафтной живописи рисуется нашему чувству настолько само собой понятной, что даже не возникал существенный вопрос о тех случаях, в которых он вообще отсутствует, и что означает это его отсутствие. Мы не находим, однако, даже намека на горизонт в египетском рельефе, ни в византийской мозаике, ни на изображениях античных ваз и фресок, ни в эллинистических фресках с их пространственностыо переднего плана. Понятие о заднем плане, таким образом, вообще не применимо ко всем этим искусствам. Эта линия, в несуществующей дымке которой сливаются небо и земля, сама сущность и сильнейшая потенция дали заключает в себе принцип бесконечно малых. Невольно вспоминается конвергентность бесконечных рядов. Перспективные дали являют собой специфически музыкальный элемент в картине, и ландшафты Ван-де-Капелле, Ван-де-Вельде, Кюйпа, Рембрандта суть поэтому, собственно говоря, только задние планы, только атмосфера; с другой стороны, "антимузыкальные" мастера, вроде Синьорелли и особенно Мантеньи, писали только первый план - только "рельефы". В этом элементе музыка торжествует над пластикой, емкость протяженности над ее субстанциальностью.
Можно сказать, что ни в одной картине Рембрандта нет "переднего плана". На севере, родине контрапункта, можно очень рано найти глубокое понимание смысла горизонта и ярко освещенных далей, тогда как на юге еще долго господствует плоско-замыкающий золотой фон арабско-византийских изображений. В миниатюрах и иллюстрированных молитвенниках (например, написанном для герцога Беррийского) у раннерейнских мастеров впервые появляется чувство пространства и понемногу завоевывает станковую живопись.
Тот же символический смысл имеют облака, изображать
которые совершенно не умела античность и которые трактовались живописцами Ренессанса с некоторой игривой поверхностностью, но готический север рано создает чудные мистические далекие перспективы с помощью групп облаков, а венецианские мастера, в особенности Джорджоне и Паоло Веронезе, вскрывают перед нашими глазами весь волшебный мир облаков, небесные пространства, наполненные парящими, пролетающими, скученными, освещенными тысячами тонов существами; наконец, нидерландцы возносят все это до
324
трагичного. Греко перенес высокое искусство облачной символики в Испанию.
В развивавшемся тогда же одновременно с масляной живописью и контрапунктом парковом искусстве соответственно появляются длинные пруды, дороги, обсаженные буками, аллеи просветы, галереи, имевшие целью выразить и в картине природы ту же тенденцию, которая в живописи олицетворялась линейной перспективой, сделавшейся для нидерландцев основной задачей их искусства и теоретически разработанной Брунеллески. Мы видим, что именно тогда ее в качестве, так сказать, математического освящения ограниченного с боков рамой и бесконечно удаляющегося в глубь пространства картины - ландшафта или interieur'a, - подчеркивали с известной нарочитостью. Прасимвол возвещает о себе. В бесконечности находится точка, где сходятся все перспективные линии. У античной живописи не было перспективы, потому что она избегала бесконечности и не признавала дали. Ее вазовые изображения, как известные единства, нельзя назвать ни пейзажем, ни interieur' ом, они ничто, ?? ?? ’??. Только отдельное имеет значение. Люди изображены каждый сам по себе, как "??????" без отношения к чему-либо, кроме себя. Они образуют суммы, а не атмосферически соединенную целость. Следовательно, и парк как сознательно созданный человеком образ природы в смысле пространственного действия дали немыслим в пределах античного искусства. В Афинах и Риме не было перспективного паркового искусства. Только во время императоров вошли в моду восточные парки.
Основным элементом западных садов является "point de vue" большого парка рококо, к которому выходят аллеи и образованные стриженными деревьями дорожки, и откуда взор теряется в широких убегающих далях. Этого "point de vue" нет даже в китайском парковом искусстве. Но полной параллелью ему служат некоторые ясные, серебряные, "красочные дали" в пасторальной музыке XVIII в., например у Куперэна. Только "point de vue" дает ключ к пониманию этого странного человеческого способа подчинять природу символическому языку форм искусства. Растворение конечных числовых образований в бесконечных рядах есть родственный этому принцип. Как здесь формула остаточного члена раскрывает настоящий смысл всего ряда, так там взгляд в бесконечность раскрывает взору фаустовского человека смысл природы. Мы, а не эллины и не люди высокого Ренессанса оценили и полюбили безграничные далекие виды с горных вершин. Это фаустовское тоскующее стремление. Мы хотим быть одни с бесконечным пространством. Доведение этого символа до
325
пределов было великим делом северофранцузских мастеров паркового искусства, в особенности Ленотра. Сравним парк Ренессанса времен Медичи с его обозримостью, ясной близостью и закругленностью, соизмеримостью его линий, профилей и древесных групп, и это таинственное стремление в даль, которое оживляет все эти фонтаны и бассейны, ряды статуй, кустарники и лабиринты, и мы узнаем в этом отрывке истории сада судьбу западной масляной живописи.
Но даль есть вместе с тем историческое ощущение. Парк
барокко есть парк осени, близкого конца, падающих листьев.
Парк Ренессанса задуман для лета и для полудня. Он вневременен. Ничто в его языке форм не напоминает о преходящем. Только перспектива вызывает предчувствие чего-то преходящего, убегающего, последнего.
Уже само слово "даль" имеет в западной лирике всех язы-
ков грустный осенний оттенок, которого мы напрасно искали
бы в греческой лирике. Современная поэзия вянущих аллей,
бесконечных линий, улиц наших мировых городов, рядов колонн собора, вершин отдаленных горных кряжей лишний раз
доказывает, что переживание глубины, которое создает наше
мировое пространство, есть в последнем основании внутреннее сознание судьбы, предопределенного направления, времени, безвозвратного. Здесь в переживании горизонта как будущего, непосредственно обнаруживается идентичность времени с "третьим измерением" пережитого пространства. Своим внешним обликом парк обязан этому в высшей степени историческому чувству, этому устремлению всей души в даль и будущее. Бодлер, Верлен и Дрем выразили его в стихах. Египтяне, родственные нам в этом отношении, при посредстве принципа циклического повторения вложили это чувство архитектуру; они создали аллеи из лотосообразных колони статуй и сфинксов. В конце концов мы подчинили этой основной идее Версальского парка вид улиц больших городов , устроили длинные, прямолинейные, исчезающие в даль и убегающие улицы, пожертвовав даже старинными историческими кварталами, символика которых теперь утратила свое первостепенное значение, - тогда как античные мировые города с боязливой заботливостью сохраняли свои запутанны кривые переулочки, чтобы аполлоновский человек чувствовал себя среди них как тело между телами. "Практическая потребность" была здесь, как всегда, массой глубокой внутренней необходимости.
Отныне в горизонте сосредоточивается глубочайшая форма, метафизическое значение картины. Осязаемое и передаваемое словами содержание, вместимость, под которым
326
подразумевается телесная реальность, единственное, что при-
знавала и подчеркивала живопись Ренессанса, делается теперь
средством, носителем выражения. Нарисованный Мантеньей и Синьорелли эскиз картины, даже не выполненный в красках, мог бы иметь значение картины. В отдельных случаях можно пожелать, чтобы они и остались картонами. В их статуеобразных композициях колорит - нечто случайное. С другой стороны, Тициан подвергался упрекам со стороны Микеланджело за то, что он не умеет рисовать. Таким образом, "предмет", т.е. то, что можно закрепить контурами, близость, вещественность, потеряли с художественной точки зрения свою действительность, и в эстетике, которая все продолжает оставаться под теоретическим впечатлением Ренессанса, с этих пор господствует странный и бесконечный спор о "форме" и "содержании" в художественном произведении формулировка его основана на недоразумении и совершенно заслонила многозначительный смысл вопроса. Дело, однако, во-первых, заключается в том, следует ли понимать живопись пластически, или музыкально, как статику предметов, или динамику пространства, - потому что к этому сводится противоположность техники фрески и техники масляной живописи, - во-вторых, в том, каково различие аполлоновского и фаустовского чувства формы. Контур ограничивает материальность, свет и тени выражают пространство. Но материя обладает непосредственно чувственными свойствами. Она рассказывает. Пространство по своей сущности трансцендентно. Оно говорит воображению. Оно выражает идею. Для искусства, которое стоит под его символикой, момент рассказа есть понижение и затемнение его глубокой тенденции, и теоретик, который чувствует здесь несоответствие между целью и выполнением, но не понимает его, хватается за попавшую под руку тривиальную противоположность содержания и формы. Проблема эта носит чисто западный характер и открывает на редкость поучительным образом полный переворот, совершившийся в оценке значения элементов картины после окончания Ренессанса и начала развития музыки высокого стиля. Под "содержанием" принято принимать оптически телесную самоценность изображенных объектов (относительно чего обычно ошибаются противники импрессионизма). Такова эвклидова форма живописи, которую культивировала античность, а в области готического языка форм - Флоренция. В античности, следовательно, такая проблема, как проблема формы и содержания, вообще не могла возникнуть. Для аттической статуи оба эти понятия идентичны: они - человеческое тело. В живописи барокко обстоятельства становятся еще
327
более запутанными, благодаря столкновению между народ
ним и высшим чувствованием. Все эвклидовски осязаемое и
то же время и популярно, а следовательно "античность" являет популярное искусство par excellence. В этом немалая до ля того очарования, которым античность притягивает фаустовские души, принужденные завоевывать свое выражено и вырывать его у мира путем борьбы. В античности нет ничего, что надо завоевывать. Все дается само собой. Антиготическое направление во Флоренции вызвало к жизни нечто аналогичное. Рафаэль популярен, Рембрандт не может быть таковым. Начиная с Тициана живопись делается все эзотеричнее, так же как и поэзия и музыка. Готика - Данте, Вольфрам - была таковой с самого начала. Громадное большинство посетителей церквей совершенно не в состоянии понять мотетты Баха и Палестрины. Они скучают, слушая Моцарта или Бетховена. Музыка действует только на их настроение. В концертах и галереях стали интересоваться этим только с тех пор, как эпоха просвещения пустила в оборот фразу об искусстве для всех, но фаустовское искусство далеко не для всех. Такова его внутренняя сущность. Если новая живопись имеет в виду только маленький кружок знатоков, который понемногу делается все уже, то это соответствует отрицательному отношению к достигнутым для всех повествовательным сюжетам. Этим уничтожается самоценность чувственных деталей, а подлинная действительность утверждается за пространством, через которое - по Канту - предметы только и получают бытие. С этого времени в живопись внедряется труднодоступный метафизический элемент, остающийся закрытым для непосвященных. Но по отношению к искусству Фидия слово "непосвященный" не имело бы никакого значения. Его пластика говорит всецело физическому, а не духовному глазу. Беспространственное искусство - a priori не философское.
7
В связи со всем этим стоит важный принцип композиции.
На картине можно разместить отдельные предметы неорганически, один над другим, рядом, один сзади другого, без перспективы и расстоянии, т.е. не подчеркивая зависимость их существования от структуры пространства, однако это еще не значит, что эта зависимость вообще отрицается. Так рисуют дикари и дети, пока переживание глубины, как выражение высшего внутреннего бытия, не подчинит чувственных впечатлений мира упорядочивающему принципу. Но принцип
328
этот в согласии с прасимволом различен в каждой культуре.
Очевидный для нас вид перспективного упорядочения представляет собой частный случай, не признанный и не искомый в живописи других культур. Египетское искусство выбирало, как правило, изображение нескольких одновременных происшествий, располагая их рядами одно над другим. Таким образом третье измерение было исключено из картин. Аполлоновское искусство придавало все большее и большее значение отдельным телам; оно располагало изолированные фигуры и группы на поверхности картины, намеренно избегая пространственных и временных отношений. Фрески Полигнота в Дельфийской лесхе служат этому известным примером. Задний план, который соединил бы отдельные сцены, отсутствует. Наличие его поставило бы под вопрос значение предметов, как единственной действительности, в противоположность пространству, как несуществующему. Фронтоны Эгинского храма и Парфенона содержат многие отдельные фигуры, а не организм. В противоположность этому Ренессанс с неизбежностью воспринимал готически, т.е. пространственно. Впервые эллинизм - самый ранний сохранившийся пример этого алтарный фриз Телефа в Пергаме - выдвигает неантичный мотив непрерывного ряда, необыкновенно развившийся на триумфальных колоннах императорского времени. Но это уже веризм - специфическая манера творить мировых городов, чисто виртуозная, лишенная действующего в глуби-
не символа. Это, кроме того, египтицизм, играющий в этой
цивилизации с 300 г. сходную роль с японским влиянием в
XIX столетии. Чтобы создать стиль и иллюзию большого искусства, заимствуют экзотические формы.
В противоположность этому живопись барокко во все свое
время своего развития имеет единственную задачу: создать
при помощи красок бесконечное пространство. Она постольку признает за предметами действительное существование, поскольку они являются носителями красок и свидетелями атмосферических световых явлений и таким образом выражают чистую невещественную протяженность. Предмет делается средством, символизированное в пространстве мирочувствование - настоящим сюжетом картины. Поэтому с окончанием Ренессанса исчезают вместе с пластикой - как искусством, неспособным к дальнейшему развитию, - фреска и рельеф и вместо богатых фигурами сцен переднего плана, из-за которых забывается пространство, выступает "гиеротический
329
ландшафт" и "intrieur" *, которые оба способствуют
чистейшему выражению специфической проблемы пространства. Изображенные сцены оказываются лишь поводом для изображения воздуха и света.
И вот с конца Ренессанса, от Орландо Лассо и Палестрины
до Вагнера, следует непрерывный ряд великих музыкантов, и
от Тициана до Мане, Маре и Лейбля - ряд великих живописцев, тогда как пластика становится совершенно незначительной. Масляная живопись и полифонная музыка переживают органическое развитие, цель которого уже таилась в готике и была достигнута барокко. Оба эти искусства - фаустовские в высшем смысле - внутри этих границ имеют значение прафеноменов. У них есть душа, физиогномия, история, притом только у них одних. На долю ваяния выпадает только несколько красивых эпизодов под эгидой живописи, паркового искусства и архитектуры. Но без них можно обойтись в картине западного искусства. Пластического стиля уже не существует, в том смысле как существует живописный стиль или музыкальный. Нет ни законченной традиции, ни вызванной необходимостью связи между отдельными произведениями. Уже в лице Леонардо дает себя чувствовать нарастающее пренебрежение ваянием. В его глазах имеет значение только отливка из бронзы, благодаря известным ее живописным качествам, в противоположность Микеланджело, излюбленным элементом которого был тогда белый мрамор. Но и этому последнему в преклонном возрасте уже больше не удаются пластические работы. Ни один из позднейших скульпторов не велик в том смысле, в каком велики Рембрандт и Бах, и надо признаться, что в их деятельности можно найти добросовестные, с прилежанием и вкусом исполненные работы, но ни одного творения, стоящего наряду с "Ночной стражей" или "Страстями по Матфею", способного в равней мере исчерпывающе выразить глубину чувств целого человечества. Это искусство перестало быть судьбой своей культуры. Язык его не имеет уже никакого значения. Совершенно невозможно передать в бюсте то, что вложено в портрет Рембрандта. Если иногда и появляется скульптор некоторого значения, вроде Бернини, Пюже или Шлютера - конечно, ни один между ними не выходит за пределы декоративного искусства и не достигает большой символики, - то он является или запоздавшим учеником Ренессанса (Торвальдсен),
* Залы, написанные Мозаччо, Фра Филиппе Липпи или Рафаэлем, суть архитектурное тем), а не "внутреннее пространство", так как здания на картинах служили им только поводом применить линейную перспективу. В такой же мере их кулисы совсем не настоящие ландшафты.
330
или замаскированным живописцем (Гудон), архитектором
(Бернини, Шлютер) или декоратором (Пигаль), и своим появлением он доказывает еще яснее, что это искусство, не способное вместить в себе фаустовское содержание, уже не имеет никакого значения, следовательно никакой души и истории в смысле настоящего развития стиля. Также обстоит дело и с античной музыкой, которая в зрелые века ионики (650-350 гг.) должна была уступать место обоим аполлоновским искусствам - пластике и фресковой живописи - и, отказавшись от гармонии и полифонии, одновременно отказаться от положения органически развивающегося высокого искусства.
8
Античная живопись ограничила свою палитру желтой,
красной, белой и черной красками.
Этот удивительный факт был рано замечен и повел к такой нелепой гипотезе, как гипотеза о мнимой слепоте греков к некоторым краскам, так как принято было придавать значение только внешним и определенно материалистическим причинам. Даже Ницше счел возможным говорить об этом ("Утренняя Заря", 426).
Но на каком основании отказалась эта живопись в свое лучшее время от голубого цвета и даже голубовато-зеленого
и начинала шкалу дозволенных оттенков с зелено-желтых и голубовато-красных тонов? Без сомнения, в этом ограничении
выражается прасимвол эвклидовской души.
Голубой и зеленый цвета - краски неба, моря, плодородной равнины, теней, южного полдня, вечера и отдаленных гор. По существу, они краски атмосферы, а не предметов. Они холодны, они уничтожают телесность и вызывают впечатления шири, дали и безграничности.
Поэтому в то время как фреска Полигнота тщательно их
избегает, "бесконечные" голубые и зеленые тона проходят в
качестве творящего пространство элемента через всю историю
перспективной масляной живописи, начиная от венецианцев
до XIX в. При этом они играют роль основного тона совершенно первостепенной важности, на котором зиждется весь смысл колорита, роль генерал-баса, тогда как теплые желтые и красные тона строятся исходя из этого основного тона. Здесь речь идет не о сочной, радостной, близкой зелени, которой пользуется случайно и довольно редко Рафаэль или Дюрер в одеждах, а о неопределенной голубовато-зеленой краске, играющей тысячами оттенков белого, серого, коричневого
331
цвета, о чем-то специфически музыкальном, во что окрашена вся атмосфера в особенности на хороших гобеленах. То, что противоположность линейной перспективе именуется воздушной перспективой и в противоположность перспективе Ренессанса могло бы называться перспективой барокко, зиждется почти исключительно на ней. Тона эти, сопровождаемые все нарастающим впечатлением глубины, наблюдаются в Италии у Леонардо, Гверчино, Альбани, в Голландии - у Рюисдаля и Хоббемы, но больше всего - у великих французов Пуссена, Лорена и Ватто, вплоть до Коро. Голубая краска, столь же перспективная краска, всегда находится в связи с тьмой, бессветностью и чем-то недействительным. Она не проникает, а уводит в даль. Гете назвал ее в своем учении о красках "волнующее ничто".
Голубая и зеленая краски - трансцендентно-нечувственные краски. Их нет в строгой фреске аттического стиля, следовательно они господствуют в масляной живописи. Желтая и красная, античные краски материи, близости, животных чувств. Красный цвет - настоящий цвет чувственности; поэтому только он и производит впечатление на животных. Он ближе всего стоит к символу фаллоса - следовательно и статуи и дорийской колонны, - аналогично тому как, с другой стороны, чистый синий цвет есть цвет просветленного покрова Мадонны. Эта связь установилась сама собой с глубоко прочувствованной неизбежностью во всех больших школах. Лиловый цвет, т.е. красный, преодолеваемый голубым, - свойствен женщинам, ставшим бесплодными, и живущим в безбрачии священникам.
Желтый и красный - популярные цвета, цвета народных
масс, детей и дикарей. У испанцев и веницианцев знать - из
бессознательного чувства гордой отдаленности - предпочитала роскошные черные и синие цвета. Наконец, желтый и красный цвета - цвета эвклидовски-аполлоновские – суть цвета переднего плана, также в духовном смысле, цвета шумной общественности, рынка, народных празднеств, наивной слепой беспечности, античного фатума и слепого случая, точкообразного существования. Голубой и зеленый - фаустовские цвета - цвета уединения, заботливости, связанности настоящего момента с прошедшим и будущим, судьбы имманентного предопределения вселенной.
Было уже раньше указано на связь шекспировской судьбы
с пространством, софокловской (бессмысленной) - с материей. Все глубоко трансцендентальные культуры, прасимвол которых требует преодоления очевидности, требует жизни как борьбы, а не как приятия данного, имеют общую им всем
332
метафизическую склонность к пространству, а также к голубому и черному цвету. У китайцев синий цвет - траурный; цвет Вертера был также синий. Я ни минуты не сомневаюсь, что аттическая сцена отвергла именно эти краски. Они противоречат духу ее трагики.
Здесь не место дальше развивать символику цветов. Глубокомысленные наблюдения над связью идеи пространства со смыслом цветов находятся в Гётевом учении об энтоптических красках атмосферы. Изложенная им в его учении о красках символика вполне совпадает с данными, почерпнутыми нами из идеи пространства и судьбы.
Самое многозначительное употребление темно-зеленого
цвета как цвета судьбы мы находим у Грюневальда; неописуемая мощность пространства в его ночных пейзажах встречается позднее только у Рембрандта. Создается впечатление как будто этот голубовато-зеленый цвет, встречающийся часто внутри больших соборов, следует признать специфически католическим цветом, если называть католическим исключительно северное христианство - с евхаристией в центре, утвержденное Латеранским собором в 1215 г. и окончательно зафиксированное Тридентским. Этот цвет с его молчаливым величием, несомненно, так же далек от великолепного золотого фона древнехристианских византийских изображений, как и от болтливо-веселых "языческих" цветов раскрашенных эллинских храмов и статуй. Надо обратить внимание на то, что действие этой краски предполагает внутреннее пространство в противоположность желтому и красному цвету; античная живопись есть столь же определенно общественное искусство, как западная - искусство мастерской. Вся большая масляная живопись от Леонардо до конца XVIII в. задумана не для яркого освещения. Здесь мы опять наталкиваемся на противоположность камерной музыки и свободно стоящей статуи. Поверхностное объяснение этого феномена климатическими условиями может быть легко опровергнуто, если вообще еще нужно его опровергать, примером египетской живописи.
Таким образом объясняется странный на первый взгляд
факт эллинской 4-красочной живописи. Так как бесконечное
пространство представляет собой полное ничто для античного
жизнечувствования, то голубой и зеленый цвета, с их упраздняющими действительность и созидающими дали свойствами, способны были бы лишь поставить под вопрос исключительное господство переднего плана, господство разъединенных тел, а вместе с тем и подлинный смысл аполлоновских произведений искусства. Взору афинянина картина в красках Ватто
333
показалась бы чем-то лишенным существенности и исполненным трудно определимой словами внутренней пустоты и лживости. Благодаря этим ирреальным краскам чувственно ощущаемые, отражающие свет поверхности получают значение не границ предмета, а границ окружающего пространства. Поэтому они отсутствуют в античности и господствуют на Западе.
9
Арабское искусство выразило магическое мирочувствование золотым фоном своих мозаик и станковых картин. Мы узнаем его запутанное сказочное действие и вместе с тем символическую цель по мозаикам Равенны и по картинам, находящимся под сильным ломбардо-византийским влиянием раннерейнских, а главным образом североитальянских мастеров, а также по миниатюрам готических рукописей, образцами для которых служили византийские пурпурные кодексы. Родственность задания поможет нам распознать душу каждой из этих культур. Аполлоновская душа признает действительным только непосредственную наличность в пространстве и времени - и она отказалась в своих картинах от заднего плана; фаустовская - стремится к бесконечности - через все чувственные границы, - и она перенесла при посредстве перспективы центр тяжести замысла картины в даль; магическая считала все ставшее и протяженное воплощением таинственных сил - и она закончила сцену золотым фоном, т.е. прибегла к средству, стоящему по ту сторону всех естественных красок. Золото вообще не краска. В противоположность желтому цвету в данном случае возникает сложное чувственное впечатление благодаря металлическому рассеивающемуся отражению просвечивающей поверхности. Краски естественны, будь то красочная субстанция гладких стенных плоскостей (фрески) или нанесенный кистью пигмент, почти нигде не встречающийся в природе металлический блеск * - сверхъестествен. Вспомним, что наряду с аполлоновской статикой и фаустовской динамикой стоит магическое естествознание - алхимия. Золотой фон есть символ не подчиняющейся правилам тайны. Вспомним "философский камень".
* Подобное же символическое значение свойственно блестящей полировки камня в египетском искусстве. Оно заставляет взор скользить по внешней стороне статуи и производит благодаря этому обесплочивающее впечатает. Наоборот, эллинский путь от пароса через наксосский, к просвечивающему паросскому и пентелийскому мрамору свидетельствует о желании позволить взору проникнуть в материальную сущность тела.
334
арабская культура - это культура религий откровения -
иудейства, христианства, ислама. Этот необычайный в данной
обстановке среди красочного целого картины элемент выражает собой чуждый мир. Получается впечатление чего-то совершенно абстрактного и неорганического. Все настоящие тела красочны, настоящая атмосфера тоже. Мерцающее золото отнимает у сцены, у жизни, у фигур их онтологическую действительность. Все, чему учили в кругах Плотина и гностиков о сущности вещей, их независимости от пространства, их случайных причинах - в высшей степени парадоксальные и непонятные для нашего мироощущения воззрения, - лежит в символике этого загадочного иератического фона. Сущность тел была одной из основных тем спора между школами Багдада и Басры. Сураварди проводил различие между протяженностью, как первоначальной сущностью тел, и их шириной высотой и глубиной, как случайными признаками. Начиная с Наццама за атомами отрицается телесная субстанция и признак наполнения пространства. Все это принадлежит к числу тех метафизических проблем, которые характеризуют арабское мирочувствование, начиная с Филона и Павла до последних представителей магометанской философии. Они играют большую роль в спорах соборов о бытии Бога и личности Христа. Золотой фон изображений имеет, следовательно, определенно догматическое значение. Он выражает бытие и проявление Божества. Он являет собой арабский вид христианского мирочувствования, и с этим внутренне связано то обстоятельство, что в течение тысячелетия такое трактование фона изображений из области христианской легенды считалось единственно метафизически и даже этически возможным и достойным. Когда в ранней готике появились первые "настоящие" задние планы с голубовато-зеленым небом, далеким горизонтом и перспективой, они показались светскими, мирскими и современными, и в них, если и не распознали, то ясно почувствовали происшедшее здесь изменение догмата. Мы видели, что как раз в то время, когда на Латеранском соборе фаустовское - германокаталическое - христианство, новая религия в старом одеянии, осознало само себя, одновременно с этим обнаружившаяся в искусстве францисканцев перспективная и красочная, завоевывающая воздух тенденция преобразила весь смысл живописи. Западное христианство относится к восточному, как символ перспективы к символу золотого фона, и окончательное разделение наступает одновременно в церкви и искусстве. Одновременно с ландшафтным задним планом картин в сознание входит понятие динамической бесконечности Бога; одновременно с золотым фоном церковных
335
картин исчезают из круга обсуждений западных соборов те магические онтологические проблемы Божества, которые
страстно волновали все восточные соборы, например Никейский.
10
Венецианцы открыли прием и значение видимого мазки и
ввели его масляную живопись как обильный результатом, созидающий пространство мотив. Флорентийские мастера все время пользовались подражающей античности, но в то же время служащей готическому чувству формы манерой создавать при помощи сглаживания всех переходов ясные, резко очерченные, спокойные красочные поверхности. В их картинах чувствуется момент пребывания. Только в видимых, никогда не застывающих мазках кисти пробивается наружу историческое чувство. Теперь в произведении художника хотят видеть не только ставшее, но и нечто становящееся. Ренессанс старался избегать этого. Кусок одежды на картине Перуджино не рассказывает ничего о своем художественном возникновении. Он готовый, данный, непосредственно наличный. Отдельные мазки кисти, которые мы находим как совершенно новую форму выражения впервые в поздних произведениях Тициана, эти полные темперамента штрихи, положенные непосредственно один возле другого, перекрещивающиеся, захватывающие один другого, сплетающиеся друг с другом, вносят бесконечную подвижность в красочный элемент картины. В равной мере и современный этим произведениям геометрический анализ рассматривает свои объекты под углом зрения становления, а не бытия. Каждая картина имеет свою историю и не скрывает ее. Глядя на нее, фаустовский человек чувствует, что он обладает собственным душевным развитием. К каждому большому ландшафту любого мастера барокко мы можем применить слово "исторический", угадывая в нем смысл, совершенно чуждый аттической статуе. Вечное становление, направление времени, динамическая мировая судьба сквозит в мелодике этих беспокойных и безграничных штрихов. Живописный и графический стиль: они означают под этим углом зрения противоположность исторической и аисторической формы, подчеркивания или отрицания генетического момента, вечности и мгновения. Античное произведение искусства - событие, западное - деяние. Первое символизирует точкообразное "теперь", второе - органическое развитие. Физиогномика мазка кисти, совершенно новый, бесконечно богатый и личный, не знакомый никакой культуре род орнаментики, - специфически музыкальна.
336
Можно противопоставить "allegro feroce" Франца Хальса и
"andante con moto" Ван Дейка. Отныне понятие темпа входит в характеристику живописного выражения и напоминает нам, что это - искусство такой душевной стихии, которая, в противоположность античному, ничего не забывает и не хочет предать забвению то, что уже однажды было.
Воздушное сплетение мазков кисти вместе с тем уничтожает чувственную поверхность предметов. Контуры исчезают в светотени. Зритель должен далеко отступить назад, чтобы получить от красочных пространственных ценностей вещественное впечатление. Это буквально живописная формулировка Кантовой теории пространства, как априорной формы созерцания, чрез которую осуществляются явления.
Тут появляется "коричневый тон ателье", отныне один
из первостепенных символов в западной живописи, и начинает все больше и больше заглушать действительность всех красок. Его не знали старинные флорентийцы, точно так же как старые нидерландские и рейнские мастера. Он отсутствует у Пахера, Дюрера и Гольбейна, несмотря на все их страстное стремление к пространственной глубине. Его господство начинается с XVI в. Этот коричневый цвет не отрицает своего происхождения от "бесконечного" золотого цвета задних планов Леонардо, Шонгауэра и Грюневальда, но он имеет большую власть над предметами. Он приводит к концу борьбу пространства против материи. Он вытесняет также более примитивный прием линейной перспективы с ее характерными для Ренессанса архитектурными мотивами картин. Он длительно стоит в таинственной связи с импрессионистической техникой мазка. Оба они окончательно растворяют осязаемое бытие чувственного мира - мира мгновения и переднего плана - в атмосферической видимости. Линия пропадает из картины. Магический золотой фон только мечтал о загадочной потусторонности, господствующей над законченностью материального мира и разрывающей ее; коричневый тон этих картин открывает взору чистую полную образов бесконечность. Открытие его означает кульминационную точку в истории становления западного стиля. Этот цвет, в противоположность предшествовавшему зеленому, имеет в себе что-то протестантское. Им предвосхищен северный абстрактный пантеизм XVIII в., звучащий в стихах архангелов из пролога Гетевского "Фауста". Атмосфера "Короля Лира" и "Макбета" родственна ему. Одновременное стремление инструментальной музыки к все более и более богатым диссонансам, введение секст, септим, ундецим вполне соответствует новой тенденции масляной живописи - создать из чистых
337
красок при помощи изобилия коричневатых оттенков
контраста непосредственно лежащих друг около друга красочных мазков художественную хроматику. Оба эти вида искусства своими мирами тонов и красок - тонами красок и красками тонов - создают атмосферу чистой пространственности, которая окружает человека и знаменует уже не образ, не тело, а самое разоблаченную душу человека. Достигается такая степень проникновенности, для которой в глубочайших созданиях Рембрандта и Бетховена уже не существует сокровенных тайн, - той проникновенности, против которой своей строгой телесностью боролось искусство аполлоновского человека.
Отныне старые краски переднего плана, желтая и красная - античные тона - применяются все реже и реже, притом
же всегда как заведомые контрасты, к далям и глубинам, чтобы оттенить и подчеркнуть их (кроме Рембрандта, больше
всего это наблюдается у Вермеера). Этот атмосферический
коричневый цвет, совершенно чуждый Ренессансу, есть самый несуществующий из всех. Это единственная "основная краска", которой нет в радуге. Есть белый, желтый, зеленый, красный, голубой свет самой совершенной чистоты. Чистый коричневый свет лежит вне возможностей нашей природы. Все эти зеленовато-коричневые, серебристые, густо-коричневые, глубокие золотистые тона, встречаемые у Джорджоне в великолепных нюансах, приобретающие все большую смелость у великих нидерландцев и пропадающие в конце XVIII столетия, лишают природу ее реальности. В этом скрыто какое-то почти религиозное исповедание. У Констэбла, основателя цивилизованной манеры живописи, мы видим другие задачи, и тот коричневый цвет, который он изучил у голландцев, обозначавший тогда судьбу, Бога, смысл жизни, обозначает у него нечто иное, а именно чистую романтику, чувствительность, тоску о чем-то исчезнувшем, воспоминание о великом прошлом угасающей масляной живописи. Последним немецким мастерам, Лессингу, Маре, Шпицвегу, Лейблю *, запоздавшее искусство которых есть та же романтика, взгляд назад, отзвук, коричневый цвет казался драгоценным наследием прошлого, и они стали в оппозицию к сознательной тенденции современного поколения - к бездушному принципу plein air'a - потому что внутренне они не могли еще отделиться от этого момента большого стиля. В этой не-
* Его портрет г-жи Гедон, написанный в коричневых тонах, есть последнее произведение старого западного мастерства, вполне выдержанное в стиле прошедшей эпохи.
338
понятой доныне борьбе между Рембрандтовым коричневым
цветом старой школы и plein air' ом новой школы обнаруживается безнадежное сопротивление души интеллекту, сопротивление культуры цивилизации, обнаруживается противоположность между символически-неизбежным искусством и виртуозным искусством мировых городов. Таким образом, становится понятным глубокое значение коричневого тона, вместе с которым умирает целое искусство.
Самые проникновенные из великих художников, главным
образом Рембрандт , лучше всех понимали значение этой краски. Это тот загадочный коричневый тон его решающих произведений, ведущий свое происхождение от глубокого свечения иных готических церковных окон, от сумерек высоко- сводчатых соборов. Насыщенный золотистый тон великих венецианцев: Тициана, Веронезе, Пальмы, Джорджоне, принадлежит старому исчезнувшему искусству, северной оконной живописи, о которой они ничего не знали. И в этом смысле опять Ренессанс с его воспроизводящим телесность выбором красок есть только эпизод, поверхностное явление слишком сознательной стороны западной души, а не ее фаустовской бессознательной. В этом мерцающем коричнево-золотистом цвете венецианской живописи готика и барокко, искусство ранней оконной живописи и темная музыка Бетховена подают друг другу руку, как раз в тот момент, когда, в лице Вилларта и Габриели, возникла венецианская школа, создавшая светскую инструментальную музыку, музыку мадригала и рондо.
Коричневый цвет сделался настоящей краской души, души исторически настроенной. Кажется, Ницше где-то говорил о коричневой музыке Бизэ. Но это слово подходит скорей к музыке, которую Бетховен писал для струнных инструментов *, или к оркестровым тонам Брукнера, наполнявшего так часто пространство коричневым золотом. Все остальные цвета играют подчиненную роль прислужников, как, например, светло-желтая краска и киноварь у Вермеера, с истинно метафизической значительностью вторгающиеся в пространство точно
* Струнные инструменты представляют в созвучии оркестра краски дали. Голубоватую зелень Ватто мы находим у Моцарта и Гайдна, коричневый тон голландцев - у Бетховена. Деревянные духовые инструменты также создают впечатление световых далей. Наоборот, желтый и красный цвета, краски близкого плана, популярные оттенки, слышатся в звуках медных духовых инструментов. Тон старой скрипки совершенно бесплотен. Достойно замечания, что, несмотря на всю свою незначительность, эллинская музыка перешла от дорической лиры к ионической флейте и что строгие дорийцы порицали еще во времена Перикла эту тенденцию к низменному.
339
но из другого мира, и желто-зеленые и кроваво-красные тона,
которые у Рембрандта как будто играют с символикой пространства. У Рубенса, блестящего художника, но не мыслителя, коричневый цвет почти безыдеен - краска для теней (в его картинах и картинах Ватто "католический" голубовато-зеленый цвет оспаривает первенство у коричневого). Отсюда явствует, что одно и то же средство в руках глубоких людей становится символом и может создать невероятную трансцендентность ландшафтов Рембрандта, в которых почти достигнута потусторонность чистой камерной музыки, а рядом с этим у больших мастеров употребляется только для технических целей, - что, следовательно, как мы сейчас видели, художественно- техническая "форма", понимаемая как противоположность "содержанию", ничего не имеет общего с истинной формой великих произведений.
Я назвал коричневую краску исторической. Она превращает атмосферу пространства картины в признак бесконечного становления. Она заглушает в изображении язык ставшего. Этот смысл свойствен также и другим краскам дали и ведет к дальнейшему, в высшей степени причудливому, обогащению западной символики. В качестве материала для статуй эллины часто применяли бронзу, к тому же еще позолоченную, чтобы при помощи сверкания такой статуи на фоне голубого неба выразить идею отдельности всего телесного . Ренессанс выкопал эти статуи, ставшие черными и зелеными от наслоения многовековой медной окиси; он вкушал историчность впечатления, исполненный благоговения и тоскливого желания, - и с этих пор наше чувство формы признало святость этих "далеких" черных и зеленых цветов. Теперь наше чувство считает их необходимой принадлежностью бронзы, и этот факт как бы нарочно создан для того, чтобы насмешливо иллюстрировать, насколько весь этот род искусства нам уже чужд. Разве для нас значат что-нибудь купол собора или бронзовая фигура без патины? Не дошли ли мы до того, что искусственно воспроизводим эту патину?
Но в возведении благородной окиси в степень художественного средства, имеющего самостоятельное значение, лежит гораздо больший смысл. Спрашивается, не сочли ли бы греки образование патины признаком разрушения художественного произведения? Они отвергли бы тут, руководясь духовными причинами, не одну только краску, пространственную зелень;
* Не надо смешивать тенденцию, выражаемую золотым блеском стоящей на открытом месте статуи, с мерцанием арабского золотого фона, который замыкается сзади фигур в сумерках внутренности зданий.
340
патина есть символ времени, и она приобретает этим знаменательное отношение к символам часов и форм погребения. Раньше мы уже говорили о тоскливом стремлении фаустовской души к развалинам и свидетелям далекого прошлого, о той склонности, которая еще со времен Петрарки проявлялась в собирании древностей, рукописей, монет, в паломничестве в Колизей, Римский форум и Помпею, в раскопках и филологических занятиях. Могло ли бы греку прийти в голову заботиться о развалинах Микен или Тиринфа? Каждый грек знал "Илиаду", но никому из них не приходила в голову мысль провести раскопки холма Трои. Развалины Гейдельбергского замка и тысячи других остатков замков, монастырей, ворот, стен заботливо охраняются - в виде руин - в самом центре наших городов, потому что глухое чувство подсказывает нам, что при возобновлении этих построек погибнет нечто трудно передаваемое словами. После разрушения персами Афин с Акрополя сбросили все - колонны, статуи, рельефы, разбитые и целые, - чтобы начать строить заново, и эта груда мусора сделалась богатейшими приисками памятников искусства шестого века. Чувство, руководившее такими действиями, было аисторическое. Это соответствовало стилю культуры, возведшей сожжение трупов на степень культа и не принявшей счисления времени по египетскому образцу. Мы выбрали и здесь как раз противоположный путь. Героический ландшафта стиле Лоррена немыслим без развалин, а английский парк с его атмосферическими настроениями, вытеснивший около 1750 г. французский парк и упразднивший ради "природы" в духе Руссо его одухотворенную перспективу, ввел кроме того мотив искусственной развилины, исторически углубивший картину ландшафта. Трудно себе представить не-
что более причудливое. Египетская культура реставрировала постройки раннего времени, но она никогда бы не решилась
строить развалины в качестве символов прошлого. Образы мексиканского искусства представляются нам в достаточной
степени карикатурными, но наша мысль показалась бы жителю Индии или греку гораздо более необъяснимой. Только в высшей степени усиленная историческая страсть могла привести к таким концепциям.
Патина дорога нам как символика бренности. Она освобождает статую, это по своей сущности совершенно вневременное
* Юм, английский философ XVIII в., в своем рассуждении об английских парках заявляет, что готические развалины представляют победу времени над силой, а греческие - победу варварства над вкусом. Тогда впервые была оценена красота Рейна с его развалинами. С тех пор Рейн сделался немецкой исторической рекой.
341
и вполне наличное произведение искусства, от ее ограниченности. Вместе с патиной вносится известная даль, налет исторического движения, следовательно, что-то от сути масляной живописи и инструментальной музыки, в то искусство, которое является их строжайшей противоположностью. Более разительно не могли выразиться энергия и изобретательность души, подчиняющей технические условия искусства своей воле к выражению. Барокко, само того не ведая, любило бронзовую пластику ради патины. Я решаюсь утверждать что остатки античной скульптуры приблизились к нам только путем этой транспозиции в музыкальность, в язык далей. Зеленая бронза, почерневший мрамор, отбитые члены фигур, или, говоря в общем смысле, трудноописуемый момент переживания во впечатлении, получаемом от торса, упраздняют для нашего внутреннего взгляда границы наличности по месту и времени. Все это мы называем живописным - "отделанные" статуи и здания, не запущенные парки не живописны, - и фактически оно соответствует глубокому значению коричневого тона ателье *, однако в конце концов при этом мы имеем в виду дух инструментальной музыки. Возникает вопрос: одинаковое ли впечатление произведет на нас сверкающий бронзой Дорифор Поликлета с эмалевыми глазами и позолоченными волосами или тот же Дорифор, только почерневший от древности: не утратил ли бы своего очарования иной торс, к примеру торс Ватиканского Геракла, если бы его даже вполне хорошо реставрировали; и башни и купола наших старинных городов не потеряли ли бы своей метафизической привлекательности, если бы их покрыли новой медью? Для нас, как и для египтян, древность облагораживает все вещи. А для античных людей она их обесценивает.
С этим, наконец, связан тот факт, что западная трагедия,
руководствуясь тем же чувством, предпочитала "исторические", но не действительно имевшие место или возможные - смысл термина не таков, - а отдаленные, как бы покрытые патиной сюжеты: что, следовательно, -событие чисто мгновенного содержания, лишенное отдаленности в пространстве и времени, античный трагический факт, вневременной миф не могли выразить того, что хотела и должна была выразить фаустовская душа. У нас, следовательно, есть трагедии прошлого и будущего - к последней, к такой именно, в которой
* Потемнение старых картин повышает для нашего ощущения их содержание, какие бы художественный рассудок ни приводил возражения против этого. Если бы употреблявшиеся масла вызвали случайно побледнение картин, на нас это произвело бы впечатление разрушения произведения.
342
грядущий человек есть носитель идеи, принадлежат в известном смысле "Фауст", "Пер Гюнт", "Сумерки Богов", - но трагедии настоящего у нас исключительно редки, если не принять во внимание малоценную в художественном смысле социальную драму XIX столетия. Шекспир, желая изобразить что-либо значительное в настоящем, выбирал всегда чужие страны, где он никогда не бывал, охотнее всего Италию, немецкие поэты - Англию и Францию, - все это для того, чтобы избегнуть близости по месту и времени, которую аттическая драма подчеркивала даже в мифе.
Комментарии (1)
Обратно в раздел история
|
|
