Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Ваш комментарий о книге
Гижа А. Интерпретация и смысл. Структура понимания гуманитарного текста
6. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТОВ
(СПОСОБЫ ПОНИМАНИЯ)
«Мысль рождается, и мы в ней мыслим. То есть мы рождаемся, возникаем в идее, а не идея приходят нам в голову. И когда мы в мысли, то можем производить закономерную последовательность мысли, где событие определенного рода рождает еще множество себе подобных событий. Некоторое бесконечное многообразие. Скажем, некоторое бесконечное многообразие интерпретаций какого-то великого образа или великого произведения искусства. Любая интерпретация есть часть самого произведения. Она непредсказуема и невыводима заранее. Когда это случится, она будет принадлежать произведению. Понимаете? Когда случится, мы констатируем, что она содержится, например, в “Гамлете”. Но перед тем как это случилось, из трагедии мы не можем ее вывести. Вот это и есть внутренняя бесконечность»
(Мамардашвили, Эстетика мышления, беседа 20)
6.1. Наблюдатель
Западная культура есть, в большой степени, культура книжная и рациональная, в ней особо остро стоит вопрос правильной трактовки текстов . Он возникает с начала развития философского знания в античной Греции, когда были высказаны первые, сознательно продуманные суждения относительно обобщенных проблем первоначала и единства всего сущего.
Оказалось, что такие суждения неоднозначны и могут быть подвергнуты существенно различным трактовкам. Проблема адекватности толкования относится ко всем сложным текстам, т.е. к таким, ключевые термины которых являются иноговорящими, отстраняющими свою буквальность.
По поводу употребленных слов «адекватность» и «буквальность» также необходима осторожность: вообще, когда речь обращается к самой себе , когда, следовательно, осуществляется некоторая замкнутость содержания (в которой обнаруживается и постигается его смысл), требуется особая внимательность и чуткость к употребляемым языковым формам.
Но нам приходится отступать дальше от непосредственного изложения заявленной темы и говорить, вроде бы, о другом, терять, как кажется, нить рассуждений. Но это не так. Мы следуем импульсам-намекам, оттенкам, мягкому воздействию со стороны нашего предмета, которые ведут естественным образом, согласно его собственной логике.
Для распознавания внутренней композиции текста нужен наблюдатель (см. сноску). Он задает отсчет пониманию и сам должен быть неподвижен. Это значит – не вовлеченным в то, что подлежит рассмотрению и уяснению, избегающим ближайших оценок, абсолютно спокойным и, в известной степени, безразличным.
Безразличный – не видящий принципиальной разницы между одним и другим, обладающий внутренним единством и преобладающей цельностью. Это, следовательно, не есть негативное состояние, но оно легко становится таковым, как только наблюдатель вовлекается в это безразличие, становится безразличным. Понятно ли это? Если ответ «да», то спросим себя: не слишком ли он поспешен? Что, собственно, оно, это «да» означает? Как можно быть (чем-то) и не стать (этим)? Мне это не вполне ясно, но только отчасти. Вот такое промежуточное состояние будем удерживать в своем сознании: ни да, ни нет, но отчасти. Но это отчасти должно быть понято безусловно, оно ведет к естественной цельности, в то время как безусловные «да» и «нет» уже содержат цельность, но – упрощенную, формально-абстрактную, искусственную, статичную.
Разница между статичностью и неподвижностью: первое механично, второе органично. Подлинная неподвижность всегда играет, включает в себя непрерывную изменчивость и самообновление. Статичность же вырабатывается и изнашивается.
«Отчасти» - означает не только логику, но и чувствование, которое необходимо для понимания. Положение с точки зрения чистой логичности парадоксально и странно: автор нечто утверждает, а потом заявляет, что ему самому это не вполне ясно. Но здесь присутствуют две стороны: (1) ясность относительно формулировки, формы высказывания и (2) понимание ее проблематичности, противоречивости, которая не устраняется внешней процедурой простой переформулировки, но должна осознаваться все основательнее.
Постоянная изменчивость – не показатель ли это подлинной неподвижности? Той, которая прячется в противоположном?
Понимание про-ис-ходит, про-истекает, про-из-водится из незыблемого спокойствия наблюдателя, целостного фрагмента нашего «я» и становится, в конечном итоге, про-из-ведением, вeдением, знанием.
«Таким образом, возвращаясь к нашему пониманию текста, мы можем его сформулировать следующим образом: текст - это некоторая длительность содержания, ориентированная на некоторое состояние сознания. А последнее мы вводим вне какой-либо принципиальной оппозиции. Состояние сознания не противостоит содержаниям, соотнесенным с ним, о которых шла речь до сих пор»[157, 67].
Не только, конечно, речь, но и мысль, и сам текст – в любой такой «зеркальной» ситуации возникает фигура наблюдателя, как бы «сделанного» из того же материала, но – в отстраненном качестве. Этот наблюдатель – основа (условие) самосознания и любого действительного понимания.
6.2. Текст и культура. Уровни раскодировки текста
Одно из существенных условий уместности (адекватности) рационального рассуждения заключается в знании границ экстраполяции понятийного содержания. Чрезмерное, расширенное использование понятия, представления, абсолютизация его действительной универсализации ведет к нарушению сущности ratio. Поэтому не будем трактовать понятие текста как всеобще-универсальное и переписывать-проецировать на него всю культуру. Во многом культура может быть представлена как текст, но далеко не всегда. Существует и качественное отличие от текстуального оформления, хотя текст в этом ином качестве также будет присутствовать.
Ни музыка, ни архитектура, например, на текст не переводятся. Говоря о текстах, будем подразумевать, таким образом, более традиционное толкование их как (преимущественно) литературных, философских, научных, религиозных etc. Этого более чем достаточно, чтобы правильно решить проблему интерпретации и дать развернутый ответ на нее.
Надо полагать, если ответ в его собственной форме будет найден, он заработает и в других областях приложения понятия текста, возможно и там, где мы от него пока отстранились.
Наиболее несложен вопрос о трактовке сугубо научных текстов, поскольку они входят в разряд формализованных, с выработанным, более или менее однозначным, терминологическим языком. Этот вопрос по прочтении научной работы вообще не должен возникать, если читающий владеет соответствующим словарем.
Вся сложность интерпретации возникает в религиозных, литературных, философских текстах. Их содержание обладает, как правило, принципиальной открытостью и с трудом поддается полной рациональной обработке. И, тем не менее, это сделать можно. Несмотря на открытость сложных текстов, они рационально выразимы и адекватно интерпретируемы.
- Промежуточное уточнение. Будем представлять тексты как реальные (непосредственные, прямые) и превращенные (выражающие не-текстовые формы в тексте). Прямой реальный текст может быть сложным и простым. Простой реальный текст однозначен и адекватен для восприятия в силу владения читающим принятым терминологическим аппаратом. Нас интересуют реальные сложные тексты.
Слово «адекватность» третий раз возникает перед нами, оно настойчиво требует внимания. Буквальный его смысл всем ясен: правильность, уместность, соответствие. Вопрос в том, чему требуется быть адекватным? Означает ли это существование правильного единственного толкования, которое не найдено до сих пор по недосмотру? Или же целый ряд равноправных толкований? Если верно последнее, то находятся ли составляющие этого ряда в каком-либо отношении между собой? Существует ли среди равноправного лучшее? Иными словами: достижима ли принципиальная однозначность наиболее основательной и общей интерпретации, которая могла бы лежать в основе всех прочих или же мы имеем неустранимую множественность различных прочтений?
Положительный ответ в первом случае позволяет ввести научную процедуру текстового анализа произвольной сложности, приводящего к общезначимому результату. Это наиболее явный путь формирования методологии гуманитарно-философского знания. Он, в целом, повторяет становление естественнонаучной методологии и стремится выстроить все смысловые, содержательные оттенки и особенности исследуемого текста на принципе предметно объективного рассмотрения.
Вторая ситуация ведет к плюрализму истин. Это трудно понять и вообще описать, т.к. здесь требуется выход за пределы данной множественности, что возвращает нас к первому варианту. Однако трудность понимания сама по себе не может, конечно, служить аргументом против данного положения.
Философия хорошо умеет находить выход из подобных альтернатив. Ответ заключается в умении представить их не взаимоисключающими, а дополняющими вариантами: как одно справедливо и необходимо, так, известным образом, и другое. Здесь возможно появление бесполезной рассудочной деятельности, приводящей лишь к имитации рассуждений. Такой бесполезной словесной шелухой переполнены социально-гуманитарные дисциплины. Нужно требовать от автора и вычитывать из его текстов конкретизацию предлагаемого единства.
В нашем случае конкретизация такова: на уровне строго логического, рассудочно-формального суждения мы имеем в гуманитарных текстах несколько толкований, из которых выбирается одно исходя из идеологических, обыденных, религиозных и иных предпочтений. Выбор здесь обусловлен сиюминутной временностью и серьезно не обоснован. Реально же присутствует несколько подходов, находящихся в состоянии противоборства. Существует и превышающая их целостность. Однако выход к ней находится вне принятой формализации, он нарушает последовательную логическую отчетливость рассуждений и не может быть строго доказан. По другому: убедительная аргументация (дискурсивность) возможна в различных направлениях, между которыми нет предзаданной согласованности . Ослабление критерия доказательности ведет к целостному видению, однако ему (новому критерию) не обеспечена общепринятость. В точных науках между общепринятостью и общезначимостью (истинностью) суждений расхождения, практически, нет.
Таким образом, учитывая открытость гуманитарных текстов, видим, что речь здесь определяется вблизи границы рационального дискурса. С рациональностью связана ясность мышления, которую мы обязаны сохранить, не взирая на невыразимость открытого предмета в однозначных представлениях языка наблюдений. Фактор противоречия при этом из запрещенного становится необходимым – это и является показателем того, что мы покидаем сферу рассудочного, не теряя, вместе с тем, понимания.
Так или иначе, но выход за пределы объективирующей научной методологии в случае сложных текстов неизбежен. Причем такой, который соответствовал бы гегелевскому представлению о снятии, о том, что дух ничего не оставляет позади себя: духовное усилие имеет собирательно-кумулятивное действие, ведущее к принятию всякого содержания в его собственной мере, т.е. адекватности.
Также должна быть принята во внимание двойная нагрузка сложных текстов. Во-первых, в тексте отражено авторское осознание реальности и с этой точки зрения он повествует именно о заявленном предмете. Если мы читаем этот текст, то должны уметь воспринять авторское понимание и оценить его в ракурсе подобных же рассмотрений. Ограничься дело познания только таким поворотом, вполне возможны были бы все более уточняющие исследования любого фрагмента действительности – социума, культурных феноменов, человека, его деятельности, самой жизни etc. И мы приходили бы к все более точному знанию. Но здесь возникает «во-вторых».
Сам текст должен быть раскодирован, он предстает проблемой. Не все в нем понятно. Процесс раскодирования также текстуально оформлен и, чтобы не вращаться бесконечно в плохо понятом материале, качество сложности в нем должно понижаться. В пределе – до простого текста с нулевой степенью сложности. Раскодирование оригинальных текстов образует комментаторскую традицию. В ней присутствуют как очень сильные имена, так и армия безвестных служителей науки, не имеющих своего голоса и, говоря без обиняков, попросту паразитирующих на первоисточниках. Кстати, в дальнейшем «сильные имена» комментариев сами становятся объектами комментирования. В результате растет маловразумительная и слабо дифференцированная информация относительно того, что некто высказал по поводу того-то.
Итак, тема исследований ставит вопросы, но ответы на них вызывают следующий ряд вопросов, которые уже могут не иметь прямого отношения к исходной теме. С последней происходят метаморфозы: в процессе длительного вопрошания ее содержание становится текучим. Поскольку же эта тема есть не что иное, как выделенный фрагмент реальности, оказывается, что человечески-жизненному, экзистенциальному миру внутренне присуще качество онтологического становления, неокончательности, изменчивости. Учтем, что речь не идет о природном, естественном становлении и развитии, происходящем закономерным образом. Здесь происходит сущностная перестройка, мир меняется как мир.
Если формируется длящийся вопрос – мир живет в обновлении, он каждый раз новый. Остановка вопросов загоняет мир в жесткую формальную схему, где быстро иссякает всякая жизненность и воцаряется скука, рутина и обыденность. Соответственно качеству мира определяется субъект этого мира, здесь мы видим одно содержание. Субъект и его мир тождественны.
Фактор двойной нагрузки усугубляет проблему адекватности. Если объект исследования изменчив, то чему должно соответствовать наше знание о нем и каким образом может быть выражена его определенность?
Здесь можно воспользоваться обозначениями средневековой схоластики, говорящей о «первой интенции» и «второй интенции». Первую характеризует направленность познания непосредственно на явления социо-культурной жизни и только во вторую очередь – на выяснение кто и что по этому поводу сказал. Вторая преимущественно видит раскрытие существа этих феноменов в рассмотрении имеющихся точек зрения по данной тематике, либо ограничивается простым их повторением. Первая интенция есть ведущая и определяющая. Она не отказывается от учета различных существующих позиций, но – не в ущерб своей новизне и самостоятельности.
Требуемая адекватность в случае сложных текстов должна быть выработана в ином варианте, чем предметно-объективированное ее представление в строго научном подходе. Необходима множественная адекватность, позволяющая поэтапно выходить, во-первых, на раскодировку текста и, во-вторых, продолжать его, достраивать относительно уже реально сущего, достигать полного и завершенного рационального понимания. Такое понимание обладает законченным характером и оно неотменимо, подобно законам природы. Правда, в отличие от последних, его какое-то время можно игнорировать, но лучше от этого индивиду не будет – биологически он сохранится, но дух, сознание его угаснут.
В сложном тексте требуют различия следующие ракурсы его содержания, дающие:
- обыденно-буквальное прочтение, в котором используются первые и непосредственные значения слов, их наиболее употребимый вариант. Ничего «за» этими значениями не просматривается. Это вариант обыденного буквализма;
- авторскую трактовку. Что хотел сказать сам автор? Она может совпасть с первым аспектом, но это не обязательно. Здесь мы встречаем авторский буквализм – поскольку найдены именно используемые слова, они, следовательно, должны быть буквальными в своем значении. Эти значения, как сказано, могут совпадать, но могут и отличаться от обыденных трактовок. Чем сложнее текст, тем больше различий. Сложность же определяется степенью неформализованности представления-изложения действительности, той ее конкретностью, которая принята к рассмотрению;
- восприятие-уяснение читателя. Это читательский буквализм. Он неоднозначен и подразделяется на уровни раскодировки текста:
- подтверждение-совпадение. Часть содержания, полностью известная читателю;
- продолжение. Часть содержания, дополняющая уже известное. Логика и используемые понятия ясны, происходит достройка имеющихся представлений;
- ожидание. Не вполне ясная часть содержания, над которой нужно подумать. Требуемая конкретность еще не достигнута (при первом прочтении), но рождается ощущение глубины и осмысленности. Возможна переформулировка начальных представлений читателя, их связность в ином ракурсе. Мягкое, исподволь воздействие на суть понимания. Читатель готов его принять в ожидании появления новой, более основательной целостности;
- замешательство, которое, в свою очередь, зависит от качества внимания, степени осознанности и сосредоточенности индивида. Происходит встреча с подлинно неизвестным. Слабая осознанность не позволяет эту встречу заметить, и она полностью ускользает от внимания. Это момент незнания своего незнания. Замешательства как такового здесь также нет и вообще отсутствует потревоженность сознания. Далее, при условии большей внимательности, встреча происходит и состояние замешательства характеризует остановку субъекта. Если в состояниях подтверждения и продолжения он раскодировал текст как чистый потребитель, безостановочно и бездумно, в ожидании слегка замедлился, может быть, даже приостановился (но готов двигаться дальше), то здесь затруднение существеннее. Он не может быть просто потребителем, поскольку возникают сомнения в качестве предлагаемого «продукта». Продукт слишком неизвестный. Как к этому отнестись? Двояко: отторжение-игнорирование, тотальное неприятие, запрет на положительное восприятие как угрожающее существующему представляемому порядку вещей или осознание собственной недостаточности, не позволяющее субъекту в его наличном состоянии приемлемо раскодировать текст. В последнем случае индивид видит кодировку, понимает, что это такое, но не в силах преодолеть ее;
- универсально-символическое содержание, не поддающееся полному объяснению и передаче вне собственного опыта. Это символический буквализм. Если автор не единственный создатель текста, тогда он действительно создает текст. Сам автор по отношению к этому уровню потенциально находится в положении читающего – самого себя. Собственный текст при этом автору интересен, не теряет новизны и нельзя сказать, что автор его доподлинно «знает».
Техническое изложение не требует диалога и собеседника, техника монологична и однозначна. Гуманитарное содержание разворачивается в диалоге. Тексту требуется соавтор, действующий через интуицию автора, через его умение говорить своим языком, высказывая именно свое, индивидуальное понимание, а не субъективно составленную комбинацию чужих мнений. В индивидуальной форме здесь раскрывается всеобщее содержание.
Для рассудочного понимания это выглядит противоречием: соавтор вступает в диалог при наличии собственного голоса автора, и в этом собственном голосе звучит несобственное содержание, как раз составляющее подлинность и неповторимую индивидуальность именно авторской формы изложения.
После подробных гегелевских разъяснений по поводу совпадения противоположных определений такие утверждения для самой философии не выглядят сомнительно и не могут быть отброшены как нарушающие логический закон запрещения противоречия. Но необходимость их углубленного и продолжающегося понимания остается. Гегель обнаружил особенную, высшую форму рациональности, умеющую включить в свои рассуждения прямо противоречивые утверждения. Но вхождение в эту форму основывается, прежде всего, на внутреннем опыте самого читателя, на его усилиях, а не вытекает исключительно и самопроизвольно из внешнего материала. Внешний материал должен быть преобразован для восприятия и стать своим для субъекта. Роль противоречивости философских рассуждений для культуры Запада аналогична практике дзенских коанов восточных медитаций и цель здесь та же – очищение и качественное преобразование сознания индивида.
Проведенное выше различение сторон содержания сложного текста нужно понимать не в смысле некой логической классификации, дающей всегда суммарную характеристику: разделение в логике проходит так, чтобы сумма частей представила все целое. Выделенные ракурсы содержания в нашем случае не суммируются и даже не дополняют друг друга до некоторой общей завершенности, а пересекаются и накладываются один на другой. В случае интерпретации сложных текстов мы находимся в условиях постоянных смысловых сдвигов, переходов и трансформаций содержания, поскольку ставим задачу выразить рационально ясно и исчерпывающе бесконечность мира, прикоснуться к реальности подлинной, а не вторично-знаковой. Только текстуально этого сделать нельзя, контекст не выявляется из своей потаенности в полной мере. Мы стремимся сохранить собственную адекватность поставленной задаче, и нарушаем требования формальной логики сознательно.
Мы руководим логикой, а не наоборот. Автор подчиняется логике, а соавтор свободен. Мы прекращаем рациональность, а потом вновь возвращаемся к ней, и связь этих моментов лежит в экзистенциальном, многомерном времени, а не в его причинно-следственном, физическом аналоге.
Для строгой формальной логичности такое положение, конечно, недопустимо. Наша задача – дать не абстрактное различение, а описать те способы раскодировки текста, которые могут быть различными и тогда такая классификация необходима, поскольку ориентирует на поиск фундаментального, универсально-символического содержания, включающего все возможности; если же имеем совпадение, тогда это означает, что все виды буквализма суть одно – понимание, следовательно, состоялось и никакие схемы больше не нужны, они сыграли свою роль и могут быть оставлены.
Способ обыденно-буквального прочтения реализует безличный субъект, чья сущность есть «совокупность всех общественных отношений» (К. Маркс). Поскольку он не имеет никакой отдельной и самостоятельной природы, формируясь полностью социальной деятельностью, то он естественно перенимает все установленные социальные нормы, способы понимания, реагирования, действия.
Последнее прочтение также характеризуется определенной степенью безличности, рождающейся из преодоления навязываемых правил трактовок и действий. Если первый тип безличности только номинален, субъект еще толком не «пришел в себя», то в символическом прочтении он уже «вышел из себя», он – вне эго, позитивно-безличен, реален.
Видно, что во всех случаях предполагаемая адекватность восприятия связана с определенной буквальностью: выделены социальная, авторская, читательская, символическая адекватность-буквальность. Буквальность, т.е. непосредственность, оказывается множественной, она и определяет неоднозначность адекватности раскодировки текста. Вся символика, так или иначе, вращается вокруг буквализма, понятом в особом смысле: его требуется вывести из-под диктата социального толкования как единственной данности. Буквализм, взятый вне обыденности, преодолевает общее противопоставление истинного и ложного, доминирует сам по себе. Это означает его самодостаточность. Глубина такой самодостаточности определяется практикой и умением созерцания.
Она может быть выявлена в дальнейшем, дополнительным изысканием.
6.3. Контекстуальное многообразие смыслов. Классическое и неклассическое состояние-прочтение термина. Представление границы термина. Мысль о времени
Определенные ракурсы содержания, дающие различные прочтения (понимание) одного и того же текста, означают специфический выход на контекстуальное многообразие трактовок используемых терминов и просто слов.
Речь, таким образом, далее должна идти о контексте – это вопрос, который фактически отсутствует в точных науках. Его последовательное исключение позволило создать аналитически-формализованную, экспериментальную методологию естественных дисциплин с точным понятийно-терминологическим языком. В гуманитарной сфере знаний подобная методология отсутствует и, видимо, вообще не может быть создана по существующему образцу. Во всяком случае, многочисленные и продолжающиеся попытки ее создания не привели к успеху.
Классическая, научная рациональность исключила из своих рассуждений состояние противоречивости суждений как возможно истинное и на этом пути сумела выделить ряд общеобязательных процедур и требований, выполнение которых необходимо ведет к научно-объективированному представлению и описанию (трактовке) предмета исследований.
В противоположность однозначно-аналитическому развертыванию предметной содержательности, в гуманитарных исследованиях (сюда нужно включить также и религиозные искания) потребовалось учесть (и далеко не в последнюю очередь) явную практику использования в той или иной степени именно противоречивых высказываний, сочетающуюся с постоянными попытками сведения ее к аналитической ясности. Допущение противоречия пусть даже и не в буквальном, прямом виде, а косвенно, подразумевая его конечную разрешимость в найденном и разъясненном контексте, не позволяет создать в гуманитарной области доступную методологическую программу, с тем, чтобы превратить предмет интереса в отстраненный исследовательский объект, поставить гуманитарное знание на технологический конвейерный поток. Однако выявить собственные основания гуманитарного знания возможно, равно как и понять рациональность в ее предельных измерениях.
Итак, вопрос об интерпретации сложных текстов переходит в вопрос о контекстах.
Под контекстом будем понимать область определения используемых терминов и вообще слов. Это, также, область их взаимного определения, выражающая связность терминов. Контекст, таким образом, представлен как континуум значений. Вне контекста термины являются неопределенными, в нем происходит локализация их значения. В общем случае термину, слову можно поставить в соответствие некоторую функцию значений, которая в контексте стягивается к одному значению , определяющему соответствующую буквальность прочтения.
Почему мы говорим о функции, а не просто о множестве значений данного термина? Разумеется, последнее также верно, но, сказав «множество», еще не получаем ту определенность, которая может быть достигнута. Функциональная характеристика в данном случае конкретнее; неизвестной функцией здесь является знаковое оформление слова как пустого имени. Эту пустоту от полного смыслового распыления, от чистой бессодержательности удерживает этимологическая и обыденная привязка смысла. Философия улавливает пустое имя (осознавая эту пустоту) и переводит его в контекстуальное многообразие значений.
Предмет философии как фиксированный предмет, существующий вне субъекта, отсутствует. Неустойчивость разного рода «окончательных решений» в данном случае, их растущая со временем неопределенность как раз свидетельствует об отсутствии объекта философского исследования самого по себе. Он существует только в связи с ориентацией на него не как на определенное содержание, а как на знак, пустую форму: истина, смысл Бог, действительность, народ… Как простые знаки эти формы абсолютно подвижны, манипулятивны, текучи и всесодержательны. Но эта всесодержательность только потенциальна, для субъекта она еще есть полная неопределенность и абстрактность. Всесодержательность на обыденно-социальном уровне оборачивается прямой бессодержательностью, рождая, как результат, практику демагогических и отвлеченных рассуждений, только имитирующих наличие смысла и разумность.
Гегель в отношении имени писал: «…Имя как имя прежде всего обозначает чистый субъект, пустую, лишенную понятия единицу. На этом основании, может быть, было бы полезно избегать, например, имени «Бог», потому что это слово не есть в то же время непосредственно понятие, а есть собственное имя… «Бытие» или «единое», «единичность», «субъект» и т.д. и сами непосредственно обозначают понятия. Если о названном субъекте и высказываются спекулятивные истины, то все же их содержанию недостает имманентного понятия, потому что это содержание наличествует только в качестве покоящегося субъекта, и благодаря этому обстоятельству эти истины легко приобретают форму простой назидательности» [63, 36].
То, что Гегель называет имманентным понятием, означает необходимую привязку смысла, благодаря которой мы отличаем содержание одного имени от другого. В имени «Бог» такая привязка также есть, но в ней фиксируется не различие (предметов и смыслов), а единство разных содержаний, такая их связность, в которой гаснут и сами противоречия. Эту трактовку можно, разумеется, опротестовать и теолог, возможно, заявил бы, что такое толкование Бога неверно. Но где критерий? В нашем варианте, который не расходится с интерпретацией этого предмета античной традицией, показано, почему здесь затруднительно вести рассуждения: в силу преобладающей цельности материала, не предполагающей его дифференциацию.
Контекстуальное многообразие смыслов является основой а) описания мира, в) его идеализации и символизации и с) его замещения. Последнее означает, что человек живет в собственном, не природном, знаково-символическом мире, являющемся для него безусловной реальностью. Природный, вещественно-предметный мир также реален, но, чтобы получить значимость и статус для человека, он должен войти в его мир, получив искомую, превращенно-знаковую форму существования.
Философская работа необходима и для того, чтобы снимать различные виды превращенного и превратного бытия, видеть условия и ограничения сугубо человеческого взгляда на мир, уметь выходить на его подлинную основу. Это возможно в процессе углубленного самопознания человека, когда он перестает быть игрой различных посторонних сил – биологически-инстинктивных или социальных, технических или политических и т.д. Языковая практика символизации мира и жизни отличается той особенностью, что правильно выйти из нее можно лишь строго определенным образом, причем полностью оставить ее нельзя. Чтобы ограничения историко-культурной детерминации не довлели в мировосприятии индивида, как раз и требуется работа по осознанию посредующего контекстуально-семантического уровня знания.
Описание контекста может быть проведено, по крайней мере, двумя способами: в терминах теории множеств и в пространственно-временном виде. Учитывая, что речь идет об очень специфической реальности – ни чисто объективной, ни чисто субъективной, но о такой, которая в определение бытия включает мышление (и наоборот), можно сказать и по-другому. Поскольку в этой реальности (подлинной экзистенции) бытие и мысль перестают противостоять друг другу, то можно говорить, соответственно, об описании не только контекста, но вообще первоосновы мышления и бытия: задавать контекстуальное ее представление (рассматривая различные типы контекстов) и аксиоматическое (совокупность аксиом пространственно-временного вида).
Действительно, если мы говорим об операциях описания, понимания и замещения мира как однопорядковых по своему существу, то необходимо уметь выделять их тождественное совпадение. Пространство и время, их концептуальное выражение (концептуалы) участвуют как в описании контекста, так и фундаментальной структуры мира.
Аксиоматическое задание фундаментальной пространственно-временной формы означает, что мы сумели выделить пространственно-временную структуру, лежащую в основе контекстов всех типов. Она должна давать, на одном полюсе рассмотрения, эмпирические пространство и время, а на другом – экзистенциальное, т.е. включать в себя весь объем пространственно-временных представлений. Это, следовательно, именно предельное обобщение самого понятия пространства и времени. Каким образом проделать это обобщение, если сами пространство и время уже есть абстракции? Сейчас мы не будем предугадывать пути и вид необходимых обобщений, поскольку для этого еще нет достаточного основания, позволяющего сделать это с уверенностью и продуманностью.
Одно значение может быть и рассосредоточенным, нелокальным. При этом оно, фактически, является множеством, набором ряда подчиненных значений. Но весь этот ряд выступает как одно целое, он не раскладывается далее на отдельные компоненты – смыслы. Это вариант принципиального отсутствия окончательного объяснения, когда происходит задание его возможных рамок, основы, но не аналитического выражения.
6.4. Континуум значений. Протокольное описание имен
Контекст как континуум значений включает в себя два аспекта. Это, прежде всего, непосредственно совокупность значений, собственно строительный материал для формулировок суждений и понимания, определяющий их тематику. Набор значений в таком их номинативном определении сам по себе пассивен и механистичен, его недостаточно для обращения к континууму и его полноценного использования. Возникает вопрос: как соотнесены между собой эти значения? Каков характер их связи? Поскольку мы в контексте видим условие понимания и хотим, кроме номинативно-абстрактного значения термина, уловить также и реальность его текущего употребления, то в определение контекста необходимо включить второй аспект – способ, которым он строится, которым он раскрывается.
Контекст должен быть раскрыт, это предполагает наличие пути к нему. Путь связывает текст с контекстом взаимообразно. Раскрытие контекста означает, одновременно, раскрытие самого текста. Способ раскрытия показывает, как происходит локализация значений, выделение их определенности, т.е. это, прежде всего, способ локализации значений. При этом контекст из неявного наличествования переходит в явное состояние, он открывается и совпадает с текстом.
Описание контекстов мы начнем с рассмотрения различных видов локализации значений как обладающих первостепенной важностью для процесса понимания и, вместе с тем, содержательно относительно простых. Задавшись вопросом, какими могут быть терминологические значения с точки зрения их однозначности, ясности, отчетливости, получаем пространственную компоненту контекста, поскольку это вопросы относительно границ, определяющих элементы континуума. В первом приближении выделим два вида значений:
а) непересекающиеся в смысловом отношении, определенные, идентифицированные. Это вариант формально-абстрактных построений, отличающихся конвенциальным характером. Здесь присутствует полная ясность в определении, поскольку она задается заранее. Такие значения обладают завершенностью, в них отсутствует принципиальное разночтение и их использование приводит всякий раз к согласованным трактовкам. Это уровень классического понимания;
в) пересекающиеся в смысловом отношении, накладывающиеся одни на другие, подвижные, содержательно до конца не определенные. Это, соответственно, уровень неклассического понимания. Здесь полная и окончательная ясность невозможна, остается возможность принципиального разночтения.
Первый уровень выступает как фактическая и неоспоримая данность культурно-исторической жизни, он составляет онтологию знаково-символического мира человеческого бытия. Второй помимо собственной, отдельной реальности, включает в себя интерпретацию, состояние выбора той или иной онтологии с ее дальнейшей проверкой и испытанием.
Согласно такому разделению мы имеем ясный критерий классического и неклассического прочтения текстов и формулировок: либо терминологические значения пересекаются и накладываются, теряя свою определенность, либо они обладают внутренней самоидентификацией, смысловой изолированностью, полной замкнутостью и устойчивостью.
С этой точки зрения нет оснований говорить, например, о современном постнеклассическом развитии философии. В ситуации рационального рассуждения требуется удерживаться в состоянии максимально достижимой ясности понимания и не вводить без серьезных предпосылок новые обозначения.
Классическое здесь не означает обязательно высшую степень совершенства, но только достижимую отчетливость рассуждений и выводов. Она может быть и абстрактно-схоластической, не жизнеспособной, внешне-формальной. Более того, она именно, в первую очередь, формальна и для выхода на содержательный уровень требуется уяснение характера этой формальности.
Неклассичность, опять-таки, не есть всегда только лучшее (или худшее) прочтение по сравнению с классическим текстом.
И в одном, и в другом случае рациональность требует достижения ясности рассмотрения, причем не за счет упрощения понимания, а во всей его конкретности. Но даже и в этом случае дело понимания не исполняется само по себе, независимо от читающего субъекта. После того, как автор сумел выразить конкретность своей темы, сам читающий должен ей соответствовать, быть конкретным индивидом.
В целом процесс познания с точки зрения чередования классического и неклассического понимания соответствует гегелевскому представлению о его трехуровневой структуре, осуществляющейся в рамках отрицания, которое проходит путь от своей безусловно-отстраненной формы до принятия в развитом содержании ранее отвергаемых противоположных сторон определения. Так, в данном случае, познание начинается с классической формы отчетливых определений, которые в дальнейшем проявляют свою односторонность и абстрактность и познание для своего углубления далее протекает в неклассических рамках. Однако требование общезначимости, ясности и недвусмысленности рационально-концептуальных построений приводит вновь к классической четкости определений, но с учетом пройденного этапа неклассической формы понимания.
Таково развитие физики, начинающейся с классической механики Галилея-Ньютона, а спустя два с половиной столетия столкнувшейся с необходимостью выработки более тонкого понятийно-терминологического аппарата. Причем характерно, что собственно математические методы в физическом приложении работали автономно, независимо от уровня философского осмысления учеными своей деятельности. Но интерпретация формул и выводов все более и более показывала свою неудовлетворительность. Такая автономность сохраняется до поры до времени и легко теряет ориентиры вне философского анализа возникающих теоретико-методологических проблем.
Пройдя, таким образом, этап неклассического переосмысления своих оснований, критериев и методов, научное мышление вновь необходимо принимает форму классического понимания. Философские рассуждения на этом этапе уступают место теоретической работе математического разума. Деятельность физика-теоретика направляется предшествующим философским анализом и является его практическим раскрытием. Нетрудно увидеть в этом отношении теоретика и философа известную формулу другого отношения – веры и разума. Ни вера, ни разум не уходят с исторической арены культурных детерминаций, но претерпевают модификационные изменения. Вера в условиях доминирования научной формы познания перестает быть преимущественно религиозной и сосредоточивается в разнообразии философских систем и трактовок. Разум также меняет своего носителя – философская (точнее, натурфилософская) форма его осуществления переходит в свой более узкий (но и более эффективно действующий) вариант в виде физико-математического знания. Все движение происходит в соответствии с ослаблением степени универсальности и одновременным усилением абстрактности действующих компонент познания. С учетом понимания отношений этих познавательных элементов в античности, получаем процесс растущей рационализации и дифференциации в духовной культуре Европы, который можно показать в виде таблицы:
ЭПОХА |
СООТНОШЕНИЕ
ВЕРЫ И РАЗУМА |
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
Античность
|
Вера & разум
Единство одного и другого
|
Тождество религиозных и философских устремлений, философская теология (высшее Благо ? Бог), разум, пронизанный верой. Тип единства – тождественность. |
Средние века |
Религиозная вера – философский разум, их различение.
|
Возникает проблема отношения, ее решение: разум направляется верой, вера раскрывается разумом. В конечном счете единство остается, но поляризуется. Тип единства – поляризация. |
Новое время |
Философская вера – математический разум, их различение, тяготеющее к одному полюсу (математическим методам) |
Фактическое подавление философии естественнонаучным подходом, действительное единство остается скрытым. Тип единства – односторонность.
|
Возможная экстраполяция выделенной закономерности |
? |
Математическая вера – многовариантный разум, предыдущая односторонность приводит разумную компоненту к вере |
Восстановление тождественного единства, строгость гуманитарных текстов сочетается с нелинейностью научного подхода. |
Математическая вера означает наличие множества различных математик, «математических дискурсов». Это ведет, в свою очередь, к многовариантности разума, который принимает свою рационалистически-завершенную форму, условно говоря, «новой философии», являющейся опять тождеством всех прежних дифференцированных сторон – и философии, и религии, и науки, и мифа etc. Новое единство представит иное прочтение мифа, науки, религии…, это уже не прежние их простые и наивные формы, полагающие себя в буквальном и обособленном прочтении.
Развитие философской практики мышления также демонстрирует сочетание классических и неклассических способов своей реализации. Однако здесь мы видим обратную последовательность по отношению к становлению экспериментально-математического естествознания. Философское осмысление начинается, в античную эпоху, как раз со своей неклассической формы, широко используя поэтический язык метафор, образов, мифологических сравнений и заимствований. Рационалистическая ясность присутствует в исходных посылках и идеях, но они не получают еще логически должной формы выражения, оставаясь адекватными в понимании самогo индивида. Но нельзя говорить в данном случае, что философские идеи вообще неверно высказываются. Ранние греки умели находить их адекватную мифологически-поэтическую форму, коррелирующую с глубинным философским, т.е. рационалистическим, мирочувствованием. Такая корреляция с самого начала нуждалась в основательной интерпретации, составлявшей проблему уже для того времени. Необходимость в таких интерпретациях для философского текста или, тем более, развитой системы взглядов и положений всегда остается. Трудно даже сказать, уменьшается ли ее степень в случае доминирования логической формы выражения, поскольку здесь также существует определенный не-логический элемент, являющийся смысловым центром всех рассуждений. И вот он-то несет неиссякаемую мифологичность в рационалистических построениях, делающую их символически-универсальными и онтологически-значимыми.
В случае философского знания мы не можем, следовательно, говорить о строгом разделении классических и неклассических способов понимания и выражения, как это было в случае точного, естественнонаучного знания. Если оно хочет сохранить себя, то должно уметь находиться в состоянии мягкого перехода между полюсами сугубо логического анализа, однозначного и абстрактно-техничного, и поэтической образностью, не сводящейся к одному значению. Поэтичность дает целостное вuдение и, следовательно, содержит конкретность и образовано собственно конкретностью как таковой. Но это закрытая конкретность, требующая развертывания и логической ясности. Здесь, таким образом, лучше говорить не о прямом чередовании этапов развития, их последовательной смене, а о внутренней акцентировке и выделении личностно-значимого содержания, притом, что иное содержание также присутствует.
Особенно ярко это видно на примере творчества Платона и Аристотеля. Первый склонен к мифологически-образному стилю рассуждений, второй – к строго логическим определениям; однако противоположная, дополняющая сторона есть у каждого.
На больших хронологических интервалах видим также стремление общественного сознания к уравновешенности, когда одна компонента развития сочетается с противоположной. Так, преимущественное доминирование научно-технического взгляда на мир и общество в XIX в. сопровождается философией романтического настроя (Шеллинг), экзистенциальной направленности (Кьеркегор), обобщенно-жизненной (Шопенгауэр, Ницше). То же в XX в.: научно-техническая парадигма находит сильнейшее сопротивление и критику в лице Хайдеггера, усиливается роль гуманитарного знания. Разделение, разумеется, нельзя проводить по границе философия – наука или наука – религия. Они находятся внутри каждого направления, оформляется как научная философия (неопозитивизм), так и философски-религиозная антропология. В рамках религиозной сферы появляется теология, претендующая на определенную научность и доказательность в осмыслении духовного опыта и его текстуального выражения.
Итак, классичность термина (соответственно, текста и его прочтения) определена здесь как качество границы его смыслового определения: она либо отчетливо фиксирована, либо подвижна и неопределенна. Само это определение относится к классическому виду, для разного рода критериев и определений требуется безусловная ясность формулировок.
Качество границы термина можно конкретизировать далее в трех вариантах. Поскольку граница суть понятие пространственное, то, привлекая геометрическую образность, получаем представление о границе между разнородными содержаниями как о:
- точке;
- интервале;
- мнимом интервале.
Точка и интервал относятся к одномерной геометрии линий. Если кому-то кажется, что здесь уместнее выглядит более богатая образность плоскости или объема, то принципиального расхождения между этими представлениями нет.
Линия значений пересекает границу в одной точке, которая и есть та точка, о которой говорилось выше.
Всякая образность в рациональном рассуждении привлекается исключительно для иллюстрации и пояснения, но не как реальное объяснение. Представление точки играет особую роль в практике мышления, как в обыденном его существовании, так и в философском, и научном. Здесь очень хорошо сочетаются полная абстрактность, идеальность этого объекта и его наглядность, естественная представимость.
Точка разделяет потенциально: не имея размеров, какой бы то ни было протяженности, она реально отсутствует и потому «точечное» разделение не может вторгаться в сферу реальных объектов и процессов как их собственный элемент. Важно избежать соблазна наделения точки онтологическим статусом, иначе произойдет достаточно незаметная подмена понятия, что впоследствии скажется в появлении в системе представлений разного рода парадоксов и нарушений.
Точка определяет такой смысловой контакт противоположных значений, когда в познании реализуется этап отрицательной диалектики. При этом говорят: с одной стороны, с другой стороны, или – как то, так и другое. Вместе с тем, дальше, как правило, мысль не движется, оставаясь в состоянии неподвижной констатации того факта, что в данном случае в осмыслении предмета участвуют противоположные стороны – определения, процессы, тенденции etc. Отрицательная диалектика не может раскрыть сущность своих же положений и, повторяя абстрактно правильные, возможно, суждения, останавливается на их простой регистрации как протокола фактического положения дел. Что это означает, как подойти к декларируемому единству, как его конкретнее определить – все это оказывается неизвестным.
Потенциальный характер точки накладывает ограничения на соответствующее понимание, оставляя его также потенциальным, только возможным, абстрактным. Однако принципиальная возможность преодоления этой абстракции есть, поскольку в точке происходит не только разделение значений, но равным образом и их соприкосновение, хотя бы и столь внешнее. Тем не менее, между противоположными значениями здесь нет смыслового разрыва, они не поставлены в отношение полной взаимной изоляции.
Философия встретилась с проблемой точечного представления пространственно-временного континуума в ранний период своего становления, в элейской школе. Уже тогда были зафиксированы парадоксы в описании движения, которые никак не удавалось удовлетворительно объяснить в рамках точечной конструкции.
Поскольку описание значений с точки зрения качество их смысловых границ означает появление пространственной компоненты и мы уже отмечали, что контекст, его структура имеет непосредственное отношение к структуре пространственно-временного типа, то необходимо указать на связь, существующую между разнотипными значениями и пространственно-временным описанием.
Теории контекста у нас нет, но с вопросом концептуализации пространства и времени дело обстоит яснее. Существуют, в общем, три подхода к формулировке природы пространственно-временной формы. Два из них реализованы в физическом знании, в рамках точного математического формализма – концепции Ньютона и Эйнштейна. Третий есть философское представление, во многом определенное Гегелем (см., также, работу «Феномен времени и его интерпретация»). Здесь мы говорим не вообще о пространстве и времени, а находимся в рамках объективированной формы понятия пространства-времени. Поскольку мы хотим сравнить эти подходы, они в онтологическом отношении должны быть одного порядка, философия здесь умеет высказаться научно.
Взаимозависимое соединение пространства и времени, осуществлено в концепции Эйнштейна, в его специальной теории относительности. Это объединение именно «точечного» вида. Дальнейшее обобщение физического пространства-времени в теории твисторной программы не меняет этого факта, а выходит на математически фундаментальную структуру, включающую в себя прежнее описание как частный случай. Это, кстати сказать, путь, который в философском отношении нужно проделать для раскрытия сущностной основы контекстуальных множеств.
В связи с этим представляется, что в основе контекста любого вида лежит единая базисная типологическая структура пространственно-временного вида, которая должна давать в одном приближении эмпирические пространство и время, в другом – экзистенциальные, т.е. ее содержание предполагается полным, включающим закономерным образом все частные формы и виды пространства и времени.
Для «точечного» описания другое – противоположное - содержание существует как соседнее, близко-связное, которое, хотя и является иным, но включено в общее неразрывное представление.
Таким образом, в специальной теории относительности появляется описание времени как длительности в единстве с пространственными отношениями как протяженностью. Такой вид единства можно определить как точечное представление, соответствующее уровню отрицательной диалектики.
Но исторически научное мышление начинает не с точечного (эйнштейновского), а интервального (ньютоновского) описания пространства. Здесь присутствует отчетливое размежевание понятийного содержания, реализуется такое смысловое расслоение, в котором абсолютизированы различия и в рассуждениях превалирует рассудочная (отрицательная) диалектика, ведущая к формулировкам изолированных и абстрактных дефиниций.
Интервал, в отличие от точки, разделяет актуально, между значениями терминов нет ни пересечения, ни какого бы то ни было контакта. Это, следовательно, актуальные значения, строго определенные и формально-абстрактные. Они не вызывают разночтений и их использование ведет к ясному пониманию предлагаемого концептуального описания.
В механике Галилея-Ньютона, ставшей на долгое время базисом в подходе к исследованию вообще любого предмета, происходит утверждение идеала классической рациональности, опирающегося на логический закон запрещения противоречия. Он был открыт Аристотелем, но его применение до сих пор происходило ограниченным образом, поскольку философские и религиозные системы, доминирующие в общественном сознании того времени, всегда включали в себя практически-конкретную сторону действительности, чуждую абстракций и, следовательно, допускали потенциальное нарушение этого закона.
С развитием научного знания возникает потребность в аналитическом языке актуальных значений, когда говорится, например, о причине как именно причине и следствии как следствии, т.е. строго раздельно, «интервально», без смешения содержания одного и другого.
Итак, формально-рассудочному типу значений мы ставим в соответствие классическое ньютоново пространство и время. В системе классической механики параметр времени не меняется от системы к системе, время здесь абсолютно и, фактически, отсутствует, это попросту абстракция равномерного движения, образующая фон для рассмотрения всех прочих видов движения.
Не надо понимать сказанное так, что эйнштейновская релятивистская механика оперирует неясными терминами, только «потенциальными» - в нашем определении, а у Ньютона достигается актуальное и ясное понимание. В одном и другом случае мы имеем концептуальную систему именно актуальных значений, поскольку они формулируются в языке научного знания. Разница в том, что в классической механике эмпирический и теоретический (умозрительный) базисы концептуального описания совпадают, а в релятивистской механике они образуют самостоятельные уровни теории. Различие эмпирического и теоретического ведет к тому, что возникает вопрос об интерпретации соответствующих формул, носящей дискуссионный характер. У Эйнштейна время впервые предстает не как умозрительная и конвенциальная абстракция, не имеющая значения за пределами научных построений, а как отдельная сущность, требующая внимания.
До Эйнштейна о самостоятельной реальности времени, о том, что это далеко не только некий «бегущий» параметр, догадывались Гете, романтики, Кьеркегор, Ницше… Но все это – за пределами точного знания, на уровне чувствований, интуиции, неопределенного ощущения, деклараций.
Потенциальность значений, соответствующих релятивистским представлениям пространства и времени, заключается в самостоятельном, отдельном существовании теоретического уровня концепции, ведущем к неоднозначности интерпретаций уровня эмпирического. Все теоретические представления потенциальны, только возможны, альтернативны. У Ньютона альтернативы нет, поскольку речь идет об отвлеченных построениях, проверяемых на истинность внутренней непротиворечивостью и относящихся именно к наблюдаемой области явлений . Все ньютоновские понятия, следовательно, репрезентативны, они суть развитые представления, не выходящие за пределы наблюдаемого, эмпирически данного. Это касается и его определения математических, «чистых» пространства и времени, которые хотя прямо не наблюдаемы, но являются идеализацией наблюдаемых величин.
Третий тип границы, который определен как мнимый интервал, относится к философскому пониманию, исходящему из принципа тождества всего сущего.
Тождество различных содержаний не исключает различия, иначе оно потеряло бы эти содержания как отдельные реальности, но преодолевает их отдельность, включая во всеобщую связь явлений и их интерпретаций.
Мнимый интервал обнаруживает совпадение смысловых значений различных терминов. Поскольку это именно совпадение, тождество, в котором нет различий – мы должны держаться этого взгляда, если хотим сохранить преемственную рациональную мысль, то приходим к выводу, что у данных терминов в этой области философского анализа нет собственных значений, они внутренне пусты. Совпадать они могут только в своей содержательно пустой части, как раз и образующей искомую общность различных содержаний.
Еще раз: мы говорим о тождестве различного, о единстве всего сущего и, вместе с тем, не хотим затеряться в сумятице неразличимых предметностей, о которой ничего внятного высказать нельзя. Единство различных содержаний обусловлено тем, что оно имеет всегда нечто, как кажется, «не свое», от которого, тем не менее, отказаться не может. Общее «не свое» - противоположная любой содержательной наполненности внутренняя пустота, она внепредметна и подлинно обща всему сущему. Отказаться от представления пустоты означает поставить под вопрос саму рациональность, которая не сможет продуктивно-диалектически развивать формы познания. Вне искомой пустотности вся рациональность усыхает до механических внешних объективаций, которые можно бесконечно перечислять, инвентаризировать, но связи и корреляции предметов и процессов при этом будут утеряны.
Значения терминов, относящиеся к мнимому интервалу, назовем виртуальными. Они далеки от того, чтобы вообще не быть и пустота здесь, разумеется, не абстрактное и тотальное ничто, а находящееся за пределами наглядного толкования нечто, апеллирующее для своего уяснения не к логическим рассуждениям, а к внутреннему опыту, к пережитой истине бытия.
Пустота суть то, что не имеет объективированной сущности. Никогда нельзя сказать что за ней стоит и что ее определяет. В этом представлении мы догадываемся о границе подобного рода вопросов и перестаем их задавать.
Пространство и время, соответствующие виртуальным значениям, описываются не в рамках научного формализма, а задаются определенным философским принципом, кладущим начало последующим трактовкам. Это содержательно диалектическое, гегелевское представление, носящее процессуальный характер.
Ньютоновское и релятивистское представления определим, соответственно, как формально логическую и формально диалектическую ступени познания. Всякий формализм означает, так или иначе, отрицание, поскольку базируется на разделяющих определениях: «определение есть отрицание» (Спиноза). Он выделяет и усиливает момент отрицания, поэтому качественность мышления, достигаемая им в диалектическом, внутренне тождественном виде, может быть, в лучшем случае, только отрицательной диалектикой, соотносящей одно и другое, ставящее разные содержания в необходимую связь, но эта связь в данных содержаниях всегда будет вторичным и производным моментом.
Вообще, постановка вопроса о первичном и вторичном как принципиальном моменте есть результат экспансии отрицательной диалектики, несущей скрытый негативизм и разрушительную силу в отношении социального действия. Последнее реализуется, если из философского видения, его частной формы отрицательная диалектика переходит в средство идеологического воздействия.
Виртуальные значения формируют (и оформляют) процессуальность, текучесть представлений, образуя пустой контекст. Отсутствие у них собственных – предметно данных – значений определяет их подвижность как внутреннюю природу, заключающуюся в том, чтобы каждый раз указывать на другое, сбивать окончательную, будто бы достигнутую, устойчивость рационального понимания . Их дело, следовательно, - сдвиг понимания, отнюдь, впрочем, не ведущий в хаотичность произвольных толкований. Речь идет о рациональном понимании, которое не должно выступать довлеющим, говорящим о том, что есть «на самом деле» в виде окончательного суждения. Рациональность, чтобы не быть догматической и наивной, включает в себя момент внутренней изменчивости, иронии по отношению к самой себе, осознавая собственную неокончательность. Конкретная, жизненная, практически-действенная истина не улавливается полностью в абстрактных концепциях, как бы последние ни развивались и ни углублялись.
Сдвигающе-иносказательная логика философских рассуждений в поле виртуальных значений не позволяет остановиться в рациональной формализации, но вырабатывает, все же, и адекватный способ ее завершения, поскольку в понимании должна быть достигнута определенная окончательность формулировок. В противном случае мы поддадимся действию «потока сознания», будем ассоциативно все время говорить «о другом» и можем реально вовлечься в этот не остановимый рассудочными соображениями процесс. Ни до действия, ни до понимания мы с такой процессуальностью не дойдем.
Но сейчас мы выходим не на тему завершености, рассмотрение которой не должно уводить в сторону, а на идею времени: постоянный смысловой сдвиг, осуществляемый виртуальными значениями и фиксируемый, в первую очередь, интуитивно-образно и рационально-неопределенно, образует ощущение «течения времени» с постоянной логикой рассуждений. С представленной точки зрения лучше сказать, что время не «течет», но как раз логика оказывается меняющейся, что дает сдвиг по значениям. Меняющаяся логика одновременно оперирует разными смыслами, течет, таким образом, не время, а смысл, в котором живет человек.
Логика в таком подходе временит, что в рационально-аналитическом суждении выглядит, с одной стороны, как изменчивость мира, относимая к временному потоку, а с другой – как дополняющая ее (т.е. изменчивость) статичная формальная логика с неизменными правилами вывода.
Если время не «течет», а есть результат спонтанного развертывания иносказательно-смысловой логики, то оно оказывается действительно, как считал Кант, «априорной формой сознания», его чувственного уровня. Но в таком случае как о нем можно говорить в смысле отдельной сущности, о чем упоминалось выше?
Иносказательно-смысловая логика не принадлежит рассудочному сознанию, для индивида она действует самопроизвольно, интуитивно, в известной мере стихийно. Именно в мере стихийности она объективна и отделена от субъекта, оказываясь для него внешней данностью. Здесь и возникает представление об «отдельной сущности», которая оказывается относительно отдельной, равно принадлежа как внешней реальности, так и внутренней.
Мысль о времени, определяясь смысловым сдвигом, есть, во-первых, социо-культурный феномен достаточно сложной человеческой общности, в которой индивид явно сталкивается со своей интуицией и в состоянии зафиксировать ее наличие. Во-вторых, она свидетельствует об экзистенциальном, личностном, переживаемом времени индивидуального сознания, в котором последнее находит свою реальность и хочет ей соответствовать. Совпадение с реальностью приводит к полному поглощению сознания индивида текущим моментом, к внутренней остановке непрерывно происходящих расчетов и оценок, к состоянию спокойного созерцания существующего без ухода в прошлое и забегания в будущее. В мыслях индивид находится именно здесь и сейчас, он ничем не обременен, ничто его не тяготит. Это пустое время чистого созерцания и адекватного действия, между этими состояниями нет временного промежутка и вытеснения, они совершаются одновременно, поскольку присутствуют в пустоте сознания.
Прошлое и будущее в экзистенциальном времени не исчезают вообще и бесповоротно, в этом случае человек просто становился бы беспамятным существом, не ориентирующимся в ситуации, не понимающим ее значения, причин и последствий. Прошлое и будущее перестают воздействовать непосредственно, как реальность, они не ведут к переживанию, человек от них внутренне отстранен, он находится в недлящемся настоящем.
В противоположность этому, формальная, математически-равномерно текущая хронология, выражающая причинно-следственную зависимость, опирается целиком на модусы прошлого и будущего, элиминируя собственно настоящее.
Выделяем, таким образом, два полюса описания времени: чистое настоящее, в котором пребывают подчиненные модусы прошлого и будущего и, с другой стороны, геометрически представленные состояния прошлого и будущего, которые суть объективированная реальность, причем момент настоящего оказывается без собственного «места» - он то попадает и укореняется в прошлом, то увлекается в мир будущего, неся в себе вперемешку страхи и мечтания, становясь безопорным, случайным и потерянным.
Характерно, что первый полюс вытесняет геометрическое представление протяженностей и длительностей, он, следовательно, вне их, вне пространства и времени. Но это точка, не имеющая размеров, она также не находится в пространстве и времени, точнее, является пределом их исчезновения. Точечное представление выше было отнесено к эйнштейновскому описанию пространства и времени, теоретически оперирующему потенциальными значениями. На эмпирическом уровне и ньютоновская, и эйнштейновская механика базируются на интервальном представлении пространства и времени – т.е. в соответствующих математических преобразованиях говорится о промежутках времени ?t и пространства ?xi.
Мнимый интервал, отвечающий виртуальным смысловым значениям, в эмпирическом плане выступает как точка, сочетающая в себе и формальную точечность (внепространственность) и действительную интервальность, выступающую, в отличие от ньютонова подхода, сама по себе, вне вхождения в несвойственные ей области прошлого и будущего, полагающую бесконечную свободу индивиду, поскольку в ней нет ограничений, она именно бесконечна. Поле жизненных проявлений индивида оказывается не ограниченным внешними формальными рамками: точка явила качество бесконечности. Для математика это не является новостью, действительное число, как известно, может быть представлено и точкой на геометрической оси и бесконечной десятичной дробью.
Такая синтезирующая функция и природа мнимого интервала говорит о его превосходящем характере по отношению к иным типам описания. Экзистенциальное время, понятое на его базе, суть также высшая форма времени, конкретное и актуальное время, обладающее всеми потенциями, всеми абстрактными составляющими, в том числе и «своим иным» - противоположный полюс также поглощен им.
Мы рассмотрели различные виды значений терминов, привязавшись к качеству их смысловой границы, данной в наглядном геометрическом представлении. Виртуальные значения, хотя и нетривиальны для классической рациональности, но не переходят в иное, в противоположность, в них преодолена рассудочная раздвоенность содержания и потому этот вид значений может быть воспринят правильно. По поводу же актуальных и потенциальных значений следует сказать еще несколько слов.
В конечном счете, т.е. в эмпирическом отношении, формально-рассудочное (ньютоновское) и формально-диалектическое (эйнштейновское) описания фиксируются в практике абстрактных, но совершенно понятных и ясных актуальных значений, которые по своему существу выражают дискретность содержательных отношений. Эта дискретность далее онтологизируется, полагается точным выражением существующей реальности. В таком качестве ее воспринимает индивид, подстраивающийся под требования дискретно представляемой реальности, сам отдающий себя ей в подчинение. Разрушить монополию разного рода формализмов призвана философия и делает это она доведением двух аспектов понимания предмета, формы и содержания, до их конкретного тождества.
Здесь мы различаем упомянутые значения таким образом: реально в формировании разумной осмысленности участвуют значения актуальные; потенциальные – могут участвовать, оставаясь пока незадействованными. Поскольку же они потенциальны по определению, то их участие всегда будет опосредованным, косвенным. Потенциальные значения могут принимать измененный вид актуального и создавать видимость, так сказать, второго порядка, где субъект живет в фантасмагорическом мире оживших знаков, не имеющих, к тому же, прямой эмпирической корреляции.
Ньютоновская, механистическая наглядность остается необходимым звеном в понимании, именно она помогает нам удержать мысль на предмете и приходить к определенному заключению.
Характер континуума значений дан как а) формализованный и в) реальный. Конкретизируя далее, формализованный континуум представим в 1а) точечном виде и 2а) дискретном. Реальный континуум определим как процессуальный. Тенденцию онтологизации формализованного континуума мы пресекаем тем, что указываем на саму реальность, никак ее не объективируя и условно называя ее природу процессуальностью. Вместе с тем, для достижения состояния понимания необходимо вернуться в формализацию. Отсюда следует вывод, что понимание есть внутреннее дело собственно сознания и в реальности можно вполне присутствовать не понимая ее, тем более, что сократовская ирония ясно показала, что момент незнания неискореним в познании. Включение момента незнания в систему рациональных представлений должно дать последним их завершающую меру и полноту.
На основе проведенного различения континуума значений получаем первую классификацию контекстуального многообразия. Оно предварительно распадается на три основных вида:
а) буквальный контекст, назовем его собственным. Он сформирован актуальными значениями, которые предметно-наблюдаемы, эмпирически наглядны и прямо буквальны. Он непосредственен и показывает ближайшую смысловую укорененность высказывания. По идее при этом не должно быть интерпретации вовсе или же она минимальна. Здесь контекст и текст (почти) совпадают - подобно совпадению теоретического и эмпирического уровней в классической механике. Интерпретацию здесь восполняет и заменяет наглядность, позволяющая просто указать на искомое содержание. Собственный контекст – это то, на что высказывание непосредственно ориентировано как описание и/или объяснение. Для высказывающего оно явно, это уровень авторского понимания. Однако выйти исчерпывающим образом на простую и наглядную буквальность в общем случае нельзя. Она адекватна в эмпирическом мире воспринимаемых предметов и приблизительна в области внепредметной, характеризующей отношения, взаимосвязь, целостность, цели и стратегии, разворачиваемые как в материальной, так и идеальной, знаковой действительности. Оказывается, что когда автор приходит к выявлению отчетливого словесного эквивалента того, что он хочет высказать и полагает это соотношение точным, буквальность найденных выражений ускользает от читателя и остается непонятой. Неясность, опять-таки, требует толкований, идущих уже от уровня читательского буквализма. Такой контекст можно назвать также эмпирическим, - таким, в котором предмет полагается тождественным имени. Предполагаемое совпадение имени и предмета означает идеализацию, ведущую к замещению реальности ее знаково-символическим описанием. При этом формируется предметно-эмпирическое, протокольное описание, т.е. буквальность, представляющая реальность в форме, удобной для ее последующей рационализации, которая есть продолжающееся замещение. Актуальные значения здесь также разобщены, как и предметы внешнего мира – насколько мир полагается внешним, настолько он разобщен в себе;
в) общий контекст, включающий в себя 1в) теоретико-концептуальное и 2в) эмпирико-концептуальное обобщения. Это, следовательно, контекст в той или иной степени теоретический, знаково-символический, всегда подразумевающий необходимость интерпретаций и определяющий их структуру. В нем присутствуют условия, предваряющие и направляющие всякое рассуждение. Здесь осуществляется знаково-теоретическое описание, имя не имеет отчетливой привязки к предмету, поскольку относится, в основном, к внепредметному миру. Это этап объяснений, образованный потенциальными значениями с формальными признаками взаимоперехода. Это последовательный переход, создающий образ непрерывности и внешней связности объектов-значений. Но переход только намечен, поскольку различные значения хотя и сопричастны друг другу, но не сохраняются в ином, теряются, остаются на своих местах – они неподвижны;
с) универсальный контекст (всеобщий, пустой). Здесь происходит выход к буквальности первого рода, но не в актуальных, а в пустых значениях. Это предметно-метаэмпирический контекст, он также может характеризоваться как метатеоретический. Он, в общем, не требует интерпретаций – при условии понимания того, что используемую здесь предметность нужно трансцендировать, превосходя ее, но не отрываясь в беспочвенность. Трансцендирование есть скользящий смысловой сдвиг, смысловая изменчивость, несущая в себе относительную завершенность. Благодаря сохраняющейся внутренней завершенности ее можно понять и, вместе с тем, не задерживаться на этом понимании. Здесь работают виртуальные значения, находясь в состоянии самотождественности и, одновременно, различения.
Во всех трех видах контекстов должно обеспечиваться точное изложение соответствующего понимания, поскольку именно для определенности смысловой актуализации значений они и служат. Описание в этих трех случаях должно быть, в идеале, протокольным, достигая исчерпывающей строгости изложения содержания. Строгость, таким образом, необходимо требовать в любом рассуждении, будь оно научным, гуманитарным или бытовым. Точность, упомянутая выше, выражает адекватность, но это не единственное ее пояснение (значение). Точность и строгость близки по значению, но и различаются. Философскую мысль, например, вряд ли стоит называть точной, это подразумевало бы однозначность толкований используемых терминов. Вместе с тем, она обязана быть строгой. Строгость вполне сочетается с содержательной неопределенностью, присущей философскому рассуждению. Здесь уместна аналогия с движением микрочастицы: ее нельзя точно локализовать в пространстве, можно указать только вероятность нахождения ее в той или иной точке, и, вместе с тем, ее движение (как движение волновой функции) происходит закономерно, описывается строгим, логически безусловным образом. В квантовой физике представлено, таким образом, и состояние неопределенности в описании микрообъекта, и даны определенные рамки этой неопределенности; точность здесь присутствует вместе со строгостью описания.
Мы не будем требовать для философии обязательной точной локализации значений, иначе сразу же попадем в ситуацию формализованного знания. Строгость же, понимаемая как адекватность и логичность изложения, остается обязательным требованием. Текст, следовательно, может быть «темным», неясным – в силу его семантически-квантового, неклассического характера. Это его не умаляет, пусть только в нем присутствует строгость мысли. В этом случае мы ее в принципе всегда можем проследить.
В текстах, ориентированных на буквальный, общий или универсальный контекст, требование строгости изложения должно приводить, соответственно, к протокольному описанию:
- естественных имен;
- искусственных знаков-обозначений;
- первичной реальности.
Чтобы захватить первичную реальность, насколько это вообще возможно в слове, нужно освободиться от знаковой заполненности, знаковой «вещественности», сделать понятие пустым, одновременно сохраняя его индивидуальность. При этом происходит трансцендирование понятия, соскальзывание с его остановившейся содержательности.
Формализация в полной мере присутствует на втором уровне, там располагается и интерпретация. Рациональность, которая связана с этими двумя аспектами, является, таким образом, промежуточным этапом на пути к полному и завершенному знанию. В форме рационального рассуждения познание ни начинается, ни завершается. Начало и конец познания лежат вне рассудочно-интерпретирующей, знаковой деятельности ratio.
Поскольку проведенная классификация контекстов была предварительной, самой общей, то ее и нужно понимать как начальную абстракцию, которая выделяет полюса и крайности искомого содержания. Само это изложение относится к концептуальному уровню, поскольку мы разделяем, даем названия, обозначаем. В других случаях данный текст тяготеет к предметно-буквальному контексту, однако в силу его максимальной отвлеченности задействованным по существу оказывается третий, универсально-пустой тип контекста.
Философский текст, следовательно, обладает внутренне-переходным характером, его контекстуальная привязка не определена однозначно. В нем работают разные виды логик: как сугубо формальная, эмпирически-обыденная, так и иносказательно-смысловая. Его адекватная точность означает достижение протокольной формы соответствующего контекста.
Что позволяет судить о качестве достигнутой протокольности? Это вопрос не к читающему текст, а в первую очередь к автору. Ответ лежит вне каких бы то ни было формализаций и технических методик, он находится в сфере чувственного – в ощущении полноты, досказанности, в чувстве завершенности, исчерпанности и (само)достаточности сказанного. Ответ находится, далее, в чистоте и отчетливости такого рода ощущения, которое не должно быть смутным и неясным: те мысли, которые определились в процессе понимания, получили явное выражение и более не тяготят автора.
Протокольность, как правило, возникает первоначально в авторской позиции. Однако возможна ситуация, когда такая позиция для самого автора останется неявной и в должной мере не осознанной, но она выступит яснее в соответствующем прочтении. В качестве примера можно привести поэтические строки Гельдерлина «там, где гибель, там и спасение», на которые нередко ссылается Хайдеггер, давая им развернутую интерпретацию и привлекая в качестве необходимой поэтически-дополняющей ассоциации своих положений.
Однако даже если автор вполне осознает протокольность написанного, то в случае философского текста у него самого отсутствует исчерпывающее рациональное понимание рассматриваемой темы. Он, в лучшем случае, скорее прочерчивает стратегические направления ее осмысления, создавая условия для возникновения последующих текстов, идущих в этом же русле, чем окончательно «решает проблему». Это происходит потому, что в подобной ситуации задействован третий вид контекстов – универсальный и пустой, не имеющий завершенной рационализации. Если, все же, философский автор полагает себя достигшим окончательного «решения», по поводу которого нет необходимости вести дальнейшие рассуждения, то он, скорее всего, пребывает в состоянии незнания своего незнания. Как ни странно, это тоже своего рода самотождественность индивида, обладающая качеством полноты, хотя и абстрактной и бессознательной.
Еще раз подчеркнем, что и в философских текстах возможна строгость изложения, которая, в отличие от текстов естественнонаучных, сочетается с неопределенностью и изменчивостью содержания. При этом требование адекватности выражения авторского понимания выполняется при его ориентации на пустой контекст. Выход в пустой контекст лишает автора исключительных прав на свой текст, здесь появляется соавтор, делающий сказанное открытым и творческим, всегда новым и неизвестным.
Проведенная выше начальная классификация привлекает для пояснения пространственную аналогию границы, пространственность вообще лучше всего способствует рациональному уяснению. Временнaя составляющая контекстов гораздо менее представима и представима она как раз не в своей сущности, а во внешнем отношении, пространственным образом, в облике иного.
Аксиоматика пространственно-временного типа, лежащая в основе контекстов разного рода, характеризуется в трех отношениях:
- по природе элементов континуума значений (т.е. по специфике их содержательной границы);
- по их количеству;
- по их смене.
Первые две характеристики составляют пространственную компоненту континуума, третий – временную. Пространственная сторона контекста апеллирует к наглядности, но наглядность неразрывно связана с видимостью, обусловливая возникновение заблуждения. Чтобы пространственность не доминировала, не подавляла понимание и не вела к заблуждению, ее требуется превосходить, сдвигая тот смысловой образ, который она статично формирует. Сдвиг же прямо ведет к временной компоненте и оказывается, что смысловой (экзистенциальной) сущностью пространственности служит именно время, временность.
С другой стороны, когда говорится, что время представлено в пространственноподобном виде и это неверно, что время не должно быть геометризовано, то это «неверно» не имеет значения абсолютного запрета. Временность таким образом открывает себя, показываясь в изменчивых внешних формах и мы будем утверждать, что в таком показе ничего не скрывается и экзистенциальная пространственность полностью насыщена временнностью и уже от самого субъекта зависит, на что он сделает свой содержательный акцент.
Как пространственность, так и временность суть различные способы описания и подходы к нему, причем ведущей стороной может выступать как одно, так и другое, поскольку последовательное рассмотрение-проникновение обязательно ведет к противоположно-дополнительному аспекту.
С выделением пространственной стороны контекстов связано объяснение как первоначальная форма понимания. Объяснение всегда рационально (все равно – на самом деле или по видимости, оно в первую очередь структурно и формально) и полностью разложимо в соответствующем интерпретационном базисе контекста. Этот базис составлен исходными пространственно-временными аксиомами, определяющими тип контекста.
В таком подходе, отчасти альтернативном чисто множественному описанию контекста, последний характеризуется как базисная система интерпретаций, выражающая способ фундаментальной связи, тип целостности рассматриваемого содержания, задающий, в свою очередь, логико-семантическое поле (пространство) рассуждения и понимания, определяющий ведущий тип логики и критерии достоверности.
Объяснение строится в рамках частного, буквального и общего, концептуального контекстов и делается это осознанно, явно. Используемый контекст при этом всегда известен объясняющему.
Мы уже неоднократно использовали термины «понимание», «уяснение», «объяснение» и т.д., подобного же рода. Они и синонимичны, поскольку относятся к одному процессу познания, и различаются, т.к. этот процесс неоднороден и может быть разбит на этапы. Уточним их место.
Если дан некоторый предмет, шире – тема, нуждающаяся в понимании, то ее эпистемическое развертывание от автора к читателю проходит ряд ступеней.
- Прежде всего, это правильное (протокольное) фактическое описание предмета, свидетельствование о нем. Предмет здесь дан в нерасчлененном, совокупном виде именно как особенное содержание. В большой степени выделенная индивидуальность определит дальнейшее свое понимание. Начальный толчок выделению-локализации дает естественное имя предмета, который не имеет однозначно-завершающего содержания. Если мы хотим философски уловить сущность имени вне его преходящих и временных толкований, то уже на первом этапе познания нужно не спешить с оценками и готовыми мнениями, а позволить говорить соавтору, не вовлекаясь в пристрастия (если не возникает такая задача).
- Второй этап (и последующие) есть авторская и вполне сознательная работа. Начинается она с высказывающего изложения темы. Заявленные свидетельства при этом становятся в связь друг с другом, возникает момент интерпретации. Автор проводит рассуждения, взвешивая их в ракурсе свидетельств, одновременно располагая элементы первоначального описания в дополняющей их последовательности. Поскольку речь идет об одновременности, то мы понимаем это как корреляцию, согласованность процесса рассуждения, его самотождественность, в которой этапы не располагаются один после другого (не всегда располагаются), а сосуществуют. Так, свидетельствование, вообще говоря, не происходит во времени, поскольку здесь звучит голос вневременного соавтора, оно – в до-времени. Наличие текущей хронологии, когда одно содержание сменяет другое, реализует сознательные авторские усилия. Свидетельствование же, в силу своей вневременности, проходит через все этапы, будучи им со-врeменным. Таким образом, высказывающее изложение содержит в себе и само первоначальное описание, заявленные свидетельства как раз во взаимной корреляции определяют саму «заявленность».
- Автор может не удовлетвориться практикой просто рассуждений, он хочет и должен ее завершить. Вне завершающей полноты рациональность не будет последовательной формой мысли. Поэтому высказывающее изложение резюмируется утверждениями, которые предлагается принять к сведению как истину. Опять-таки, свидетельствование может сразу принять форму утверждений и тогда изложение станет второстепенной частью текста, обращенной к тем, кому сразу не понятно и требуются пояснения. Декларативно-утвердительная сторона текста звучит очень сильно, когда свидетельство выступает настолько отчетливо, что автор здесь следует буквально вослед соавтору, сознательно реконструируя его интуиции. Таковы тексты, например, Гегеля и Маркса, а также раннегреческих мыслителей. Последние декларируют, впрочем, гораздо мягче, чем Гегель и, тем более, Маркс.
- Ясность авторского понимания находит себя в объяснениях, содержащихся в тексте. Объяснение может быть как безусловным, воспринимаемым автором как итог достигнутого понимания, как истина, так и условным, принимаемым «в известной мере», как «способ говорить», который буквально воспринимать нельзя. В последнем случае оно будет промежуточным и проходным состоянием в познании и действии, в конечном счете не обязательным. В объяснении субъект апеллирует к основанию, принятому как истинное или истинноподобное. Он редуцирует содержание к известным положениям, которых не должно быть много. Чем менее предмет рассуждений формализован, тем более приблизительным и неточным оказывается объяснение, становясь, мало-помалу, только привычным способом понимания, в котором самого понимания уже не осталось. Речь идет о предмете, содержание которого может быть формализовано в различной степени. Если оно с самого начала определяется соглашением, то никакого объяснения и не потребуется, поскольку перед нами присутствует результат концептуально-абстрагирующей деятельности рассудка, в котором субъект должен разбираться и понимать. Таково положение в математике. В естественных науках, где работают методы прикладной математики, объяснение отвечает своей сути, оно на своем месте. В гуманитарных дисциплинах объяснение связано с остаточной формализацией, с рассудочным отношением к предмету. Оно не исчезнет вовсе и не должно исчезнуть, но требуется сохранить адекватность рассматриваемой предметной области. Приблизительное объяснение вполне уместно, если осознается именно в таком ракурсе. «Способ говорить» также служит в качестве пояснения, это вариант нелинейного объяснения в отличие от его линейной формы в научном описании.
- Здесь начинается встречная работа читателя, который все предыдущее должен осознать, осмыслить, понять, т.е. тем или иным образом уяснить. Если для автора должна быть характерна ясность понимания того, что он делает, то теперь мы говорим об уясненности – это ясность, прошедшая через восприятие читателя, он ее должен воспринять, сделать окончательной для себя. Приставка «у» свидетельствует о завершенности действия: (у)бежать, (у)трамбовать, (у)мчаться… Когда происходит встречное к авторской ясности уяснение его текста, возможны три варианта:
- восприятие текста произойдет идентично авторской позиции. В таком случае перед нами простая передача исходной позиции. Это уровень школьного обучения;
- восприятие не приведет к пониманию автора, оно будет ниже его. Это уровень недостаточной передачи;
- восприятие читателя превысит авторское понимание, это сверхпередача. Автор при этом передал больше, чем сам рассчитывал, а читатель сумел проделать эту операцию явно.
Третий вариант наиболее интересен, поскольку первые два говорят в лучшем случае о добросовестном чтении, в худшем – о плохо подготовленном читателе. В нем возникает продуктивное сомнение в отношении прочитанного. Продуктивность его в том, что оно заставляет выйти на более широкий контекст трактовок, в котором авторские утверждения проходят через критику, превращающуюся в самокритику. Самокритика отличается от критики тем, что она не отвергает предложенные формулировки, но проясняет их, уточняя содержание и действуя, следовательно, в интересах его развития. В рамках самокритики происходит доработка содержательной стороны текста, и авторские утверждения получают свое место в смысловом отношении, лишаясь универсального статуса абсолютной истины. Без «своего места» утверждение не то, чтобы реально претендует на полную непогрешимость, в нем, скорее, просто не возникает соответствующего уровня самооткровения, заставляющего искать это свое место. Если автор не претендовал на безусловность своих представлений, не указывая условия ограничения собственных объяснений, то, все-таки, всегда есть желание получить нечто окончательное и неизменное, пусть даже и текуче-неизменное. В противном случае перед нами останется невнятное впечатление чего-то, возможно яркого, но эфемерного, исчезнувшего без следа. Продуктивное сомнение снимает претензию безусловности сказанного, эту форму авторского самогипноза, и вырабатывает понимание его внутренней и естественной меры.
На этом уровне сомнений может, кстати, возникнуть и фигура самого автора, если он отнесся к себе критически, вернулся к написанному и творчески, расширенно, не отвергая вовсе, переосмыслил сделанное. Но обычно, все же, это делают другие.
- Сомнения читателя приводят его к соавторству, к выработке своего отношения к тексту, к уточненным формулировкам. При этом предыдущая уясненность, основательно проработанная, превращается в принятие текста. Текст уже изменен, соотнесен с позицией читателя. Происходит выход за пределы первоначального текста и его формальной уясненности в состояние соавторства и в таком измененном качестве он становится своим, принимается как факт. Этот укорененный в сознании факт внешне выступает как утверждение. Движение понимания от автора к читателю, таким образом, замкнулось – читатель сам превратился в автора и пришел к собственным убеждениям.
Чаще позиция соавторства возникает не прямо в процессе восприятия текста, а впоследствии, после его соотнесения с иными трактовками; как результат – происходит выход на осознание их взаимосвязи, превышение односторонности каждой позиции. Это, однако, детализация, не меняющая существа дела. Разумеется, невозможно уложить в одну схему все многообразие форм познания, когда, к тому же, происходит взаимодополнение авторского и читательского понимания, и сам исходный предмет давно потерял свою отчетливость и находится в состоянии смысловых трансформаций. Тем не менее, некоторые узловые точки мы зафиксировали.
Насколько явно в авторе звучит его внутренний соавтор, незримо присутствующий на всех этапах работы, настолько возможен и внешний диалог с читателем. Внутренний соавтор замещает внешнего читателя в процессе создания текста. Если это замещение состоялось, далее оно развернется в творческий диалог текста с читателем. Фактически, к делу осмысления при этом подключается внутренний соавтор в самом читателе, его творческая и открытая ипостась.
Таким образом, если автор как эмпирический индивид сумеет отстраниться от своего непосредственного «Я» и дать слово другому, неэмпирическому «Я», которое по сути своей безлично и универсально (одновременно, и индивидуально), и, далее, эту же процедуру проведет читатель, то они будут со-беседовать на смысловом уровне, без препирательств и мелочных соображений, не стремясь опорочить и уязвить друг друга, но только с целью самопознания. Внутренние соавторы весь материал располагают в ракурсе самопознания и для них (фактически, для него) нет ничего только внешнего или только внутреннего, поэтому им ничего не противостоит и ничто не враждебно.
Включение читателя в текст, проникнутость текстом дают картину раскрытия субъекта, так, что он именно проникается текстом, допускает его к себе как узнанное свое. Не внешнее бытие раскрывается перед ним, а он, воспринимая текст, превращает его в себя, интериоризирует, обнаруживая, в конечном счете, глубоко родственное, внутренне близкое содержание. Субъект, следовательно, находит себя в бытии – при условии доверия к нему. Самопознание осуществляется в доверии, вообще в вере.
Обычно в классической теории познания полагается, что субъект как нечто цельное проникает в бытие и именно оно должно раскрыться в акте познания, стать, по Хайдеггеру, непотаенным. Мы же увидели, что в языке существует и другое, противоположное описание, когда предполагается раскрытие самого субъекта, снятие, следовательно, его внутренней защиты. Эта защита есть граница эмпирического Эго, «Я», оставляющее индивида в неведении, невежестве и слепоте, которые он далеко не всегда намерен преодолеть, несмотря на все декларации по поводу стремления к истине. Слепота и невежество эмпирического «Я» таковы с точки зрения иного, неэмпирического и вообще необъективируемого состояния подлинной индивидуальности. Цель Эго – адекватная социальная адаптация, эффективное вписывание в предметную реальность и оно ее достигает. Рассуждения относительно своей слепоты Эго вообще не воспринимает, понимая их (причем совершенно верно) как определенного рода уловку, направленную на его преодоление.
Пришли ли мы в этой, «перевернутой» картине к «более правильному» описанию? Нет, мы получили только одно из возможных описаний, которые суть вспомогательные и проходные величины в представлениях процесса самопознания. Только так и надо принимать всякого рода картины и примеры, различного рода наглядности – как полезную условность, обладающую не безусловной, но известного рода истинностью.
Однако наша картина обладает решающим преимуществом перед классическим вариантом: она обращает внимание на самого индивида и видит в нем проблему.
На уровне эмпирического естествознания (биологии, физиологии, научной психологии и проч.) индивид, хотя и выступает сложным объектом, подлинной проблемы не представляет. Подлинной – означает с длящимся вопрошанием. Все вопросы рассматриваются здесь в рамках наглядного языка наблюдений и методологии эксперимента с выработанными требованиями повторяемости, однозначности, линейности, причинно-следственного описания, внешней фиксации результатов. Эти требования взаимосвязаны, так или иначе дополняют и частично пересекаются в содержании. Трудность здесь заключается в умении правильно проецировать бытие индивида, его самого на плоскость объективного рассмотрения и выделить все существенные компоненты, гармоники этого объективного ряда. Это рассмотрение в сути своей всегда частично, полнота вuдения требует равного учета всего содержания и уже после этого при необходимости можно провести выделение «главного».
Подлинной проблемой индивид становится на уровне не естественнонаучной, а философской рефлексии, которая, разумеется, не сводится к некоему вторичному «обобщению» того, что ей перепадает после деятельности чистого рассудка научного познания. У философии – свой ракурс, обеспечивающий такой взгляд на мир, который содержит проблемность в принципе, и стать беспроблемным, окончательно решенным, не может.
Неисчезающая проблемность любого бытия подразумевает его противоречивость, парадоксальность, неожиданность, новизну, нетривиальность, короче говоря – неиссякаемую глубину и наличие экзистирующего, внутренне активного, деятельного начала.
Что же это за начало? Это неэмпирическая, смысловая структура бытия, образующая своего рода след во внешнем материале опыта, пронизывающая этот опыт, оставляя множественные следы своего пребывания (можно сказать и непребывания) без возможности полной редукции к опыту. Последнее приводит к потере качественной особенности смысла, его сугубой прагматизации и узости. Смысловая структура не сводится и к сущности вещей, образуя, скорее, закон изменения этих сущностей.
В области смысла, в сфере идеального (которое, хотя и нематериально, но совершенно реально) противоречие находит свою естественную среду обитания, оно здесь – у себя дома и его не надо изгонять, как это делают в своей сфере научные теории.
Поскольку так обстоит дело и смысл обязательно соотнесен с противоречивостью и раздвоенностью содержания, то оно, это содержание смысла, разновекторно, одновременно бежит в разные стороны и используемый язык для описания этой ситуации должен быть осознан в его применении. Иного языка, кроме обыденного языка наблюдений и общения, мы создавать не должны, чтобы не впасть в схоластическую формализацию. Требуется привести в движение значения контекстов и реально задействовать их в понимании. Философская, особая проблемность возникает в сфере не природного, но общественно-исторического и личного бытия. Прямой контекст эмпирического языка относится к пространственности и говорит о поверхности (чего бы то ни было). Слово, взятое не прямо буквально, а символически, позволяет выйти на необходимое контекстуальное многообразие значений. Прямая же буквальность не улавливает и не выражает смысл ни исторического процесса, ни человеческой жизни.
Выход из геометрической определенности обыденного языка в аллегорию и символику, так, чтобы внешне обыденная речь превратилась в инструмент ясного осознания, означает, что мы покидает круг эмпирического существования и перестаем однообразно вращаться в одном и том же круге проблем, постоянно недоумевая при этом: как это история вечно умудряется оставлять нас с носом?
Поэтому Энгельс с полным правом заявляет: «Мы знаем, что такое час, метр, но не знаем, что такое время и пространство! Как будто время есть что-то другое, нежели совокупность часов, а пространство что-то иное, нежели совокупность кубических метров!» [328, 550]. Но нужно помнить, что это право до тех пор истинно, пока мы остаемся в рамках ньютоновой парадигмы – для философа это вовсе не обязательно.
« … неделимый отрезок, миг, перед которым мы несвободны. Он застрял, и мы высвобождаем его. Он и есть мысль. Это время невозможно расположить линейно и последовательно. Если я хочу выстроить какое-то действие, то оно предполагает шаги — первый, второй, третий. А шаг, в котором нечто только на миг себя показало, я линейно расположить не могу - тут же все уходит вбок, сцепляясь, и двигаясь потом по замкнутому кругу взаимодействий, где повторяется одно и то же. Одни и те же задачи нужно решать заново, как будто никогда не было сделано и никогда не будет пережито. Вот об этом ухождении вбок я и хотел вам сказать в связи с Россией» [155, беседа 20].
6.5. Полное пространственное развертывание типологии контекстов
Поскольку мы продолжили ведущий философский тезис о единстве и тождестве всего сущего в аспекте принципиальной связности смыслового содержания, это позволяет нам провести типологию контекстов на основе наглядной пространственности, составляющей одну из сторон контекстуального многообразия. Противоположная сторона – временнoе описание.
Нам нет необходимости для полноты картины предпринимать подробное описание временной составляющей. Сущность времени, как пояснено выше – во вневременности, она, иными словами, пространственноподобна. Время высвечивается в категории пространства, так обстоит дело в физическом описании, такова и их экзистенциальная форма. Временность, время сосредоточивается в своем существе во внешне-абстрактном оформлении и видимости, в ином: внутреннее, которое есть по видимости иное, уравновешивает внешнее, которое есть по видимости свое.
Пространственность также не остается лишь рядоположенностью отчужденных объектов и видит-находит себя в аспекте временности. Отчужденность снимается в их совместном движении, где и возникает практика измерения времени.
Поскольку пространственность наглядна и является, в конечном счете, основой описания как предметного мира, так и его концептуальных обобщений, требуется провести ее последовательное применение. Одну сторону контекстуальной аксиоматики, касающейся характера элементов континуума значений, мы разобрали – это их классическое и неклассическое разделение и связанная с этим предварительная классификация. Остается добавить в эту картину рассмотрение количественного фактора и пространственная компонента контекстуального описания будет исчерпана, захватив представление о контекстуальном множестве в полном объеме.
Описание количественной стороны континуума предполагает два толкования. Во-первых, под количеством элементов можно понимать совокупность значений одного термина и, во-вторых, непосредственно множество самих терминов. Мы используем первое толкование, которое при определенных условиях может включать второе. Такие условия возникают, когда возможное значение некоторого термина само представимо как отдельный термин (соответственно, со своей совокупностью значений).
Графически это можно представить таким образом:
           А В С D I А В С D I
     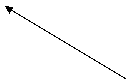 • • • • • • • • • •
Линия имен Множество возможных
значений терминов
Имена терминов
Набор терминов, присутствующих в анализируемом тексте, составляет линию имен (в нашем примере это термины, обозначенные A, B, C, D, I). Каждый из них обладает своей совокупностью возможных значений, располагающихся на вертикальной линии. Имена терминов соответствуют (привязаны) традиционно принятым обиходным или этимологическим значениям, составляющим их начальную определенность.
Нас, прежде всего, интересует область значений ключевого термина, т.е. такого, который наиболее нагружен потенциальным и пока неопределенным смыслом. Ключевой термин или их совокупность определяют качество и уровень всего текста. Вход в контекст происходит по ключевым терминам или суждениям (в самом суждении, как правило, также можно выделить основной семантический «центр тяжести»).
Совмещая представление о границе элементов с их количественной характеристикой, получаем следующее описание возможных контекстов:
- однозначный, или единичный. У каждого используемого термина одно и только одно определенное значение. Получаем описание замкнутого мира с фиксированной интерпретацией, которая определяется на основе договоренности, является конвенциальной. Такое описание наиболее формализовано, оно лучше всего выражено в математике и, в идеале, должно достигаться в юридической науке и практике. В тексте с однозначным контекстом ключевые слова есть – это собственно термины данной науки, их значение нужно просто знать и никаких догадок здесь не предусмотрено. Слова естественного языка подбираются здесь таким образом, чтобы их многозначность не проявлялась, будучи подавленной ключевой конвенциальной однозначностью. Единичный контекст формирует чистую аналитичность, он идеально приспособлен для адекватной передачи понимания, но эта адекватность осуществляется за счет полной формализации этого понимания и оно, следовательно, оказывается принципиально абстрактной и посторонней величиной по отношению к индивиду, его реальной жизни. Такой контекст характеризуется как совершенно исчерпаемый с точки зрения толкований. Для выполнения исчерпаемости, т.е. понимания текста, необходимо, чтобы каждый использованный термин был узнан, прояснен, исчерпан в содержательном отношении. Это чистая, или математическая (или аналитическая) рациональность, ее субъектом является Математик;
- счетно-конечный. Предыдущий вариант оказывается частным случаем такого контекста и, строго говоря, включен в него со счетностью, равной 1. Здесь у каждого термина более одного, определенного значения. Их может быть несколько, много, но в любом случае общее количество ограничено. Это также замкнутый мир, но расширенный, появляется вариативность. Каждая смысловая вариация не произвольна, внутри себя она может быть строго обоснована. Это мир научной рациональности, ее классической формы. Там, где есть претензия на научность рассмотрения, нужно требовать работы в этом типе контекста. Неопределенность здесь может быть только результатом незнания, при условии, что все значения данного термина выработаны в ходе научной практики. Однако такая достигаемая совокупность значений возникает не сразу и какое-то время ведущее, ключевое значение может отсутствовать. В таком случае семантическая нагрузка падает на иное значение, которое в данном случае может быть не адекватно описываемому предмету и в таком случае возникает ошибочная трактовка. Здесь, таким образом, в отличие от предыдущего варианта дело не ограничивается только вводимой формализацией, которая свою истинность соотносит с внутренними критериями самой данной процедурой введения. Возникает интерпретация, кроме формальной, также и содержательная, говорящая о физическом смысле формул. Содержательная интерпретация может быть не обеспечена соответствующими значениями, их место некоторое время будет пустовать. В этом принципиальное отличие от предыдущего случая, потому мы говорим, что предыдущий вариант есть частный случай более широкого содержательного многообразия. Иначе мы имели бы попросту повторение однозначности и никакого расширения и вариативности рассмотрения не было. Определим такой контекст как однозначно исчерпаемый. Его субъектом является Теоретик;
- счетно-бесконечный. Здесь происходит завершение классической формы рационализма, расширение замкнутого мира доходит до своего предела. Теоретик сюда заходит редко, в этом контексте царит художественная форма, в первую очередь – непосредственно создающая тексты (проза, поэзия), во вторую – создающая опосредованные тексты (архитектура, живопись etc). Осуществляется множественная однозначность, при которой трактовок предполагается множество, и каждая будет обоснована. Это, следовательно, многократно исчерпаемый тип контекста. Субъектом его является Поэт, сопровождаемый дополнительными, оттеняющими фигурами Критика и Литературоведа. Предыдущие субъекты в таком дополнении не нуждались, однако здесь мы сталкиваемся с бесконечностью, хотя бы и потенциально пересчитываемой. Поэт непосредственно обращен к этой бесконечности значений и смыслов, находя для нее завершающую художественно-поэтическую форму, а Критик и Литературовед эту форму рационально «пересчитывают», создают ее смысловые инвентарные списки. Счетность значений указывает на их сохраняющуюся определенность, потому и Критик, и Литературовед есть вполне уместные и необходимые фигуры. Но этих определенностей бесконечно много, потому дополняющие фигуры играют роль Теоретика, они теоретизируют, рассуждают, но прийти к однозначной и завершающей, конечной и общепринятой трактовке не могут. Однако существует практическая однозначность, которая может быть создана в существующей традиции, связанной с преимущественной ориентацией на ведущую форму научного знания (начиная с Нового времени). Счетность континуума значений позволяет следить за рассуждениями Литературоведа (для краткости опустим упоминание о фигуре Критика), они всегда могут быть сделаны достаточно ясными. Это позволяет говорить о сохраняющейся рациональности, но она оказывается принципиально множественной.
Расширение замкнутого мира на бесконечность оборачивается потенциальным множеством замкнутых, изолированных и локальных миров, практически непроницаемых друг для друга. Каждый из них самодостаточен и не испытывает необходимости в другом, разве что из чистого любопытства и ради развлечения индивид может переходить из одного в другой и сравнивать их. Но такой переход, чаще всего, является результатом не избыточной силы духа, которому тесно в предлагаемых канонах, а есть следствие простой поверхностности и непонимания субъекта. Когда субъект найдет соответствующий ему мир, все его метания и поиски закончатся. Единственно Поэт здесь – универсальная фигура, находящаяся в покое. Он охватывает всю бесконечную совокупность значений, но интуитивно, а потому не принадлежит сам себе, не осознает отчетливо собственное знание. Интуиция и творческое (т.е. синтетическое, порождающее, а не аналитически-развертывающее) мышление подконтрольны дискурсу очень отчасти. Он способен создать лишь условия для их по(про)явления.
Литературовед же действует вполне определенно, но не потому, что вся бесконечность значений уже актуально существует и ему остается лишь воспользоваться готовыми формами. Бесконечность значений здесь потенциальна и теоретическая работа Литературоведа эту потенциальность актуализирует, он творит значения как определенные смыслы. Он, по сути, занимается творением смыслов, пересчитывая их и так подходит к бесконечности – как исчерпаемой, поскольку видит, что успешно в ней продвигается.
Описанные континуумы значений относятся к формализованному типу, основным способом понимания в которых является непосредственное объяснение. Следующие виды континуумов характеризуются как процессуальные, рациональность в которых не достигает исчерпывающей ясности, передаваемой в готовом и завершенном виде. Эта сторона рационального отношения к миру включает как свою компоненту противоречие, частичный отказ от самой себя, от окончательности и безусловности формулировок. Их строгость, однако, сохраняется;
- несчетно-конечный. Здесь начинается неклассическая форма рационального понимания. Она является однозначно-неисчерпаемой. Однозначность говорит о возможности буквального прочтения, поскольку слова здесь подыскиваются точные и адекватные. Но этот буквализм еще необходимо увидеть, можно сказать – позволить себе увидеть его в простоте текста, устранив поиски иносказания, какого-либо аллегоризма. Иносказание здесь есть, но возникает-открывается оно в правильном виде после обнаружения именно простой буквальности. Неисчерпаемость как раз говорит о возникающем иносказании. Иносказание здесь такого рода, что оно всегда сохраняет смысловую связь с увиденной буквальностью и лишь через нее может быть понято.
Это уровень философской рефлексии и доминирует на нем, конечно, Философ. Он осуществляет преемственность между отчетливой классически-объяснительной формой рацио и его иносказующей, указывающей, намекающей стороной, между логикой линейной, статичной с одной стороны и сдвигающей, уводящей от окончательности толкований с другой. Его положение – равновесное, а иноговорящая логика выражена так, чтобы провести понимание читающего (и выразить должным образом собственное) через всю совокупность значений – от неуловимых виртуальных до отчетливых и безусловных актуальных.
Как показывает историко-философская практика, обращение к соседнему полю Поэта в работе над стилевой формой с проясняющимся смыслом, который исходит из закрытости неприсутствия в ясность сказанного, нередко оказывается плодотворным (как пример - творчество Хайдеггера, неоднократно сопутствующего Гельдерлину). Плодотворность, возможно, стоит здесь в прямой зависимости не только от индивидуальных особенностей Философа, который сумел найти близкого ему Поэта, но и от философской способности провести необходимую экспликацию смысла. Но если в Философе (вос)преобладает внутреннее поэтическое начало, то перед нами появится очередное литературное произведение. От Философа не требуется дать смысл целиком, полностью его выявив – это и было бы формализацией, ведущей к догматизму. Дать целиком, завершенным образом означает объективировать смысл, «урезав», тем самым, его содержание. Работа Философа в том, чтобы дать возможность смыслу непрерывно течь, что размывает всякую идеологическую догматику и обновляет-поддерживает сознание в бодрствующем состоянии. Философ на уровне сугубо рефлексивной деятельности обрисовывает-формирует поле первоначальных смыслов, аксиоматических и априорных, представляющих полную совокупность принципов и понятий, обеспечивающих последующую реализацию самодостаточности жизненного мира человека. Мир его рефлексии в этом смысле также замкнут, как и в предыдущих случаях. Рациональное построение должно быть завершено, иначе оно не состоится. Можно сказать точнее: требуется вступить в завершение, чтобы оно в той или иной степени присутствовало. Этого будет достаточно для удержания рациональности;
- несчетно-бесконечный. Это архаическая рациональность родового мышления. В этом типе континуума налицо использование многозначных слов с неустановившимся семантическим полем значений. Это ведет к тому, что каждый отдельный однозначный вариант сам распадается в растущее многообразие смыслов. Возникает мифология и религиозная ритуальная символика, сознание индивида при этом имеет выраженный религиозно-мифологический характер. В мифе нет специально придуманных, отвлеченных терминов, вся бесконечная несчетность значений основывается на использовании повседневной речи в ее практически-бытовой, житейской форме. Повседневность употребляемой речевой практики миф «заземляет» и возникает представление об антропоморфности мифологический описаний мира. Если бы дело касалось только трактовок в этимологически-бытовом значении, прочитанных в непосредственной и прямой буквальности, тогда это было бы совершенно верно. Однако в мифе, в силу фактора семантической несчетности, также работает иноговорящая логика, как и в случае с философскими текстами. Бытовая речь в данном случае есть в чистом виде «способ говорить» о вещах, лежащих далеко за пределами житейского обихода. Бытовая речь не содержит в себе самой необходимости выхода к иным, не буквально-повседневным трактовкам, она самодостаточна. Такой выход нужно предположить-изобразить, нарисовать его самому и тогда он (про)(по)явится вполне реально.
В мифологическом материале функционирует несколько совершенно автономных логик рассуждения, вновь образующие замкнутые миры понимания. Но эта замкнутость уже более закрыта, чем в случае счетно-бесконечных континуумов, где работают Критик и Литературовед. Открыто путешествовать между мирами поверхностному индивиду здесь не удастся, его поверхностность удержит его в любом из них, поскольку каждый включает в себя бесконечную поверхность, по которой можно благополучно скользить всю жизнь, думая при этом, что происходит движение вперед, к новым смыслам. Все миры счетной бесконечности умещаются в одном таком суперзамкнутом мире. Это уровень Поэта, но уже без сопровождающих фигур.
Мифологическое сознание имеет, по крайней мере, три ближайших составляющих: собственно поэтическую, которую определим как адекватно-стилевую, рождающую соответствующие данному смыслу речевые формы; далее отметим религиозную и философскую. Они могут быть и разобщены, даны в собственной акцентировке, тогда перед нами предстанут фигуры Поэта, Мистика-теолога и Философа. Эти составляющие способны составить равновесную и согласованную композицию, в таком случае Поэт перейдет в Мистика и Философа. Усиление согласованности приведет к концентрации всех трех составляющих в фигуре Философа и возникнет вариант философской мифологии, сопровождающей всякое глубокое, рационально продуманное учение. Философски мифологичен не только, например, Платон – это выглядит явно в силу используемого им стиля свободного художественного повествования, но также и Шеллинг, когда он пишет: «Темное, бессознательное, то, что Бог как сущность постоянно пытается вытеснить из своей глубины и исключить, есть материя (пока еще не сформировавшаяся); материя есть не что иное, как бессознательная часть Бога…». Есть ли это рациональное определение материи? Нет, конечно. В Шеллинге говорит его мистико-теологическая составляющая, чью речь он вводит в философский текст. Умаляет ли это Шеллинга как философа? Опять-таки, нет. Таков его стиль, склонный не к прямому объяснению, а к косвенному, к аналогии и параллелям, к использованию «способов говорить» о том, о чем непосредственно нельзя сказать. Такой стиль творчески продуктивен – скажем, в приведенном отрывке присутствует прямая метафора вытеснения, играющая важную роль в психоанализе Фрейда. То, что Шеллинг говорит о Боге, о чем рассуждают наиболее основательные теологи, есть разговор, прежде всего о глубинах человеческой души. Поэтому если мы сумеем отстраниться от желания увидеть в отрывке отвлеченный разговор о материи, то сумеем разглядеть в нем живую конкретную мысль. Для этого нужно уметь смотреть на текст под разными углами, не выхватывая из него отдельные, понятные нам фрагменты, но цельным взглядом обозревая все его смысловое многообразие. Реализация такого подхода требует допущения в рациональный текст нестрогой, на первый взгляд, образной поэтической речи. Философская мифология неизбежно присутствует и у абсолютного рационалиста Гегеля в виде самоотчуждающейся абсолютной идеи, приходящей к самопознанию. Мог ли он обойтись без этой, как некоторые полагали, «мистики»? Отбросить мистику, а науку оставить – взять «ценное и лучшее», а все прочее исключить из системы? Иными словами, изъять зерно, а землю, куда оно посажено, выбросить за кажущейся ненадобностью. Ответ ясен: зерно останется зерном, абстрактным построением и не разовьется в живую и творческую силу. Эта земля как раз и есть миф, в котором живет и развивается рациональное понятие.
Мифологичен и Маркс, несмотря на постоянную апелляцию к научному сознанию: он заменил гегелевскую землю иной средой и вырастил, таки, саженец пролетарской идеологии, отринувшей исходное философское зерно;
- пустой. Это последний тип континуума значений, являющийся полной противоположностью первому, однозначному. Это многократно-неисчерпаемый контекст и таков, соответственно, жизненный мир. Его терминологические значения не выделены, они виртуальны. Здесь в полной мере и безоговорочно функционирует сдвигающая, иносказательно-смысловая логика, а также такие формы объяснения и понимания как «способ говорить», которые оказываются именно только способом, намеком, отдаленным пояснением, за который ни в коем случае не нужно держаться, а лучше быстрее забыть. Все объяснения здесь на самом деле являются квазиобъяснениями, их функция в приглашении к со-творчеству.
Отсюда действует Соавтор и на этом уровне все прочие фигуры у него в гостях, но одновременно и у себя дома, поскольку он есть скрытая сущность каждого из них, их реальность и жизнь. Насколько фигура не закрывается своей мнимой самостоятельностью и кажущейся внешней индивидуальностью, настолько она причастна себе же, своей основной сущности. Причастность сущности выявляется в акте свободного решения индивида по поводу принятия сущности. Соавтор может стать сущностью, если будет допущен к этому – но кем или чем? Кто ему в силах помешать, если он в основе творения?
Спросить, видимо, нужно точнее: какой сущностью он может стать? Ибо лишить его существенного положения никакая частная фигура не в состоянии. Соавтор неизменен и все трансформации происходят в явном и открытом сознании фигурантов, к которым он, Соавтор, апеллирует и взывает. Соавтор хочет вызвать встречную работу сознания с целью провести его по всему многообразию жизненных миров и контекстуальных значений, иными словами – вырастить в нечто полноценное, открытое и самостоятельное. Сущность желает укорениться, найти свою землю и полностью актуализироваться. Соавтор сам по себе, как относящийся к пустому контексту, именно пуст и выполняет собственную задачу перехода частных контекстов в более общие, с тем, чтобы эта искомая пустота себя обнаружила. Момент самообнаружения и актуализации будет точкой роста сознания, его принципиальной трансформацией, оно узнает себя как универсальное и бесконечно действенное, в сущности – как единственно реальное, которому ничего не противостоит и не угрожает.
Мир пустого континуума – разомкнутый и бесконечный, это мир реального бытия. Некоторые философы достигают его, и в целом здесь лучше себя чувствует Философ, если достанет у него силы на философскую веру. Философ привык сохранять ясность духа и не терять себя даже там, где никакого «себя» нет. Его это не обескураживает, он понимает, что словами дело не оканчивается и даже не начинается. Его опора на пустой контекст невыделенных, виртуальных значений должна быть безусловной и несомненной, тогда он сможет перейти от слов к делу и выйти из бытового круговращения навязанных форм и способов поведения, оценок, действий, суждений и т.д. Это путь философского просветления и он, разумеется, не единственный. Но насколько мы мыслящие существа, настолько он актуален.
Неклассическая рациональность (и рациональность вообще) в пустом континууме находит свое завершение, она состоялась и достигла в нем меры. Пустой континуум предполагает полную связность всего существующего содержания, доходящую до прямой тождественности. Действительно, пустота определяется по отсутствию (буквально – пустое место), имея как свой ведущий момент общую неразличенность сущего и, следовательно, его потерю (прозрачность) для рассудочно-категориального мышления.
Высказавшись в пустом континууме по одному поводу, индивид одновременно высказывается и по всем остальным вопросам. Речь идет не о частных и формализованных фрагментах знания, которые суть временные и основанные на соглашении произведения-проекции рацио, а о знании в высоком греческом значении блага, которое не утилитарно и не приложимо, может быть, сиюминутно для достижения материального комфорта. Однако вне этого высшего блага не происходит осуществление человека, он остается частной же личностью, не живущей, но претерпевающей жизнь.
Мы провели пространственное разделение континуумов значений и увидели как начало рациональности, так и ее естественное завершение. Первое лежит в аналитически-развертывающей, последовательной деятельности рассудка, ведущего рассуждения таким образом, что за ними можно следовать внешне воспринимающим образом. Формальность и поверхностность здесь – нормальный тип отношений, никакой «глубины» (следовательно, и разбросанности) содержания не предполагается. Прежде чем говорить о каких-либо «глубинах», требуется хорошо освоится на поверхности. Второе исключает такие рассуждения, они появляются только как вторичные, необязательные и служащие для пояснения.
Основным звеном в завершающем этапе рациональности является декларация, утверждение, основанное на пустых терминологических формах, которыми могут выступать слова повседневной речи. Обязательная линейная последовательность рассуждений здесь устранена, весь процесс понимания совершается сразу, вне временной последовательности «раньше-позже».
Высказавшись в условиях завершенной рациональности об одном, мы делаем заявление обо всем. Отсюда берут начало универсальность суждений философского текста и мифологических сюжетов, творящих(ся) в условиях онтологического генезиса. Их собственные значения пусты, и эта пустота дарует место для разворачивания внешнего многообразия имен-вещей, впервые делает возможным появление их индивидуальных различий. Вещь и ее имя совпадают, мысль и то, о чем она – одно и тоже.
Речь, идущая из пустого контекста, относится к Соавтору, говорящему через Философа. Жиль Делез спрашивает как о фундаментальной проблеме: «Кто говорит в философии? или: что такое «субъект» философского дискурса?» [82, 136].
Говорит Соавтор-Философ и делает он это цельно, не растрачивая смысловое единство мира на его описание в виде механического множества частных точек зрения. Говорить цельно и означает говорить все сразу, в смысловой собранности. Много слов при этом не бывает, они появляются потом, когда возникает желание (или необходимость какого-либо рода) донести мысль в доступной, пространственно развернутой форме до фигурантов соответствующих контекстов.
Время пустого контекста есть экзистенциальное время с его элиминацией геометрической пространственности и, одновременно, удержанием образности используемых выражений. В экзистенциальном времени нет разделенности, реально существует (в абсолютном смысле) данный момент времени, «здесь» - он, как видим, определяется пространственно. Сказать вместо этого «настоящее» или «теперь», конечно, можно, но в определении мы опять выйдем на «здесь», оно – то, что дано.
Пространство смысловым образом интенсифицируется, стягивая смыслы и решения, все альтернативы в данное место и данный момент – в тот, в котором индивид себя обнаруживает как «себя» и видит в этом себе силовое сосредоточение мира. Будучи стянутыми в точку «сейчас» (эквивалент «здесь») альтернативность и вообще разделенность исчезают, но конкретность высказываний остается.
В качестве пояснения приведем гегелевское определение движения: «Две точки сливаются в единую точку, и в то время, когда они есть в одном, они также не есть в одном. Движение и состоит именно в том, что тело находится в одном месте и одновременно в другом, причем столь же верно, что оно находится не в другом, а именно в данном месте» [65, 72].
В ближайшем, буквальном отношении речь идет именно о движении, это и есть собственный контекст данного гегелевского положения. Не сказано ли попутно здесь и о другом? Причем это «другое» должно быть не выведено логическим путем, а усмотрено в той же картине. Чтобы увидеть нечто еще в приведенном отрывке, желательно знать, конечно, его ранее - тогда нам придется только узнать его, припомнить. Такое знание у нас есть: гегелевская дефиниция, высказываясь об абстрактном, механическом движении, говорит о мере, дает характеристику его ограничивающих сторон. Можно ли вообще высказаться по существу и не сказать опосредованно о мере? Ведь мера определяет условия философских суждений, и они могут быть усмотрены в последних.
Границы меры именно таковы, как и точки в представлении движения. Одно и другое ограничение (если за ведущий образ взять геометрическую линию) содержаться друг в друге, граница знает о своей противоположной ипостаси и в начале, таким образом, содержится завершение, а в завершении живет начало. Первое рождает ощущение трагичности философских истин, но второе ставит все на свои места, создавая нужную перспективу, в которой все видится в свете должного.
Что есть мера, как не гегелевское «быть здесь и не здесь»? Другая точка, к которой отсылается внимание, суть та же самая, прежняя, но поданная в ином ракурсе, в аспекте завершения.
Внимание, метнувшееся в другую точку, поскольку было отослано туда из начального положения, находит там то же самое, это кажущееся иное суть прежнее и внимание, таким образом, даже не возвращается в исходную точку, в этом нет необходимости. Приходит осознание, что по существу внимание никуда и не уходило. Чем же оно занималось, уясняя себе факт движения-меры? Своим делом, самопознанием – внимание внимало, всматривалось в исходное содержание и, обнаружив в нем противоречие, восприняло его как движение, которое относится к смыслу.
Итак, мера есть смысловое движение исходного содержания, т.е. движение понимания в осознанном и принятом противоречии. Это, по-другому, найденное и раскрытое противоречие. Противоречие явилось основой смысла, который оказался не поверхностным и формальным, а основательным, требующим для осознания кроме чтения еще и обязательной внутренней работы духа.
Мера как смысловая граница должна быть замкнутой величиной, иначе она не будет ограничивать содержание в точном значении этого слова. Замкнутая величина сохраняет внутреннее единство, и это мы увидели в факторе самотождественности границы, в совпадении ее с собой же.
Высказываясь о движении, Гегель сказал и о мере, и о смысле… Эти суждения не служат ни для инструктивного использования, ни для «принятия к сведению»; они составляют незаметную и потаенную часть познавательных способностей, которая определяет качество рождающейся мысли.
Внимание в своей сути и мере всегда остается собранным, оно – в одном. Дополнительное смысловое измерение, которое связывает две пространственные стороны – границы меры, естественно назвать временем. Это как раз его экзистенциальная форма, появляющаяся из работы сознания в смысловой области. Как видим, никакой формализации по поводу измерения времени мы не проводим, но прослеживаем, как и где оно возникает.
Взгляд в одну пространственную точку ведет к самогипнозу, и внимание может погрузиться в сон разума, в котором увидит только свои (не лучшие) представления. Почему «не лучшие»? – поскольку оно поставило себе внутренние ограничения, их оно и зафиксирует, как покажется в этом сне, «на практике».
Поскольку пространственность и образность сопровождают понимание и внимание, то сноподобное состояние сознания в рациональности, видимо, присутствует всегда. Но его можно нейтрализовать, если внимание сделать раздвоенным, чтобы сон не увлек его полностью. Одна часть внимания должна оставаться неподвижной и не вовлеченной ни во что деятельное, она и послужит проводником Соавтора .
Деятельное обременено механичностью, суетой и мельтешением точек перемещения, которые всегда остаются на месте, погружая сознание в гипнотический сон. Поэтому греки так ценили незаинтересованное созерцание, ставя его превыше достижения материальных благ.
Смысл как раскрывающаяся будущность экзистенциального времени не имеет завершенной предыстории. Будущность приходит и раскрывается в аналогично-зеркальном действии индивида, и оно никак не может быть определено через прошедшее, подобно определению следствия через причину в физическом времени. По поводу возникающего смысла нельзя спросить откуда (он взялся) и почему (он таков)? Откуда и почему обозначают завершенную непрерывность понимания, т.е. пространственно данную рациональность. Смысл рождается в момент рождения и весь сразу, он не существует в том же виде до своего явного выражения. Это, разумеется, не сиюминутный, бытовой смысл, а тот, который управляет деятельностью человека и общества на протяжении всей культурной эпохи.
Не требуя обязательной развернутости в комментариях и пояснениях , смысл имеет прямое отношение к пустым формам высказываний. Возникает парадокс: насколько высказывание пусто, настолько оно обладает смыслом; но будет ли оно должным образом осмыслено – это еще вопрос.
Наполненность реальным, эмпирическим содержанием вытесняет смысл и наоборот – трансцендирование ближайших эмпирических значений ведет (может привести) к смыслу высказывания. Трансцендирование преодолевает самогипноз внимания, сбивая его фиксацию-застревание на проходных иллюстративных моментах в познании, мысль освобождается.
В проведенной типологии континуумов значений фигура Философа занимает выделенное, центральное место. И наоборот: занимание такого положения делает индивида Философом. Движение к нему совершается в сознании, а не во внешней должностной иерархии и потому попасть туда и быть этим здесь одно и то же. Базовый континуум Философа – несчетно-конечный. Он захватывает в конечном текстуальном оформлении полную меру рациональности, т.е. собственно осознания. Оно для него, в отличие от Поэта, открыто, хотя и остается, в силу несчетности значений, недосказанным явно.
Рациональность характеризуется, как и любая конкретность, своими границами, «внутренними» и «внешними». Внутренние составляют ее собственную проблемность по выполнению задачи уяснения меры сущего, внешние свидетельствуют об условиях вообще рациональных рассуждений.
Мишель Фуко говорит об отношении автора и Соавтора так: «Я предпочел бы обнаружить, что в тот момент, когда мне нужно начинать говорить, мне давно уже предшествует некий голос без имени, что мне достаточно было бы лишь связать, продолжить фразу… Я хотел бы, чтобы позади меня был голос - голос, давно уже взявший слово, заранее дублирующий все, что я собираюсь сказать…» [289, 49].
Развернутость желательна и совершается де юре в отношении к обществу; де факто она для индивида – Поэта и Философа уже состоялась.
6.6. О границах философии
Философия любой эпохи есть, по Гегелю, ее самосознание. Индивидуум философствует – и аккумулирует в этом процессе разнообразный духовный опыт своих современников, говорит и делает явным то, что «носится в воздухе» его времени, что заставляет двигаться общественную мысль в определенном направлении или же, напротив, определяет ее хаотичность, разбросанность и бессилие. Философ, иными словами, вслушивается в ход времени, но озвучивает в своем учении не все подряд, не произвольные и случайные модуляции, а ведущую и существенную компоненту и, следовательно, претендует на то, чтобы говорить от лица самой Вечности.
Если отбросить случаи простой популяризации философских течений, когда неизбежно происходит их упрощение и вульгаризация, то оригинальные тексты действительно несут в себе степень истины – именно в той части, где они утверждают нечто, а не опровергают вообще иные учения. Истина выражает абсолютную форму мышления, его адекватность не в «отражении» внешне объективированного мира, а в самом себе. Отсюда следует представление, что полная истина выступает как последняя цель бесконечного познания, что и означает стремление мышления (собственно человечности) к достижению собственной, а не навязанной извне форме. Такая форма осуществляется в философском познании, но означает ли это, что возможен эффект накопления истины, когда отдельные ее постигнутые грани складываются со временем во все более целостную картину?
В философском познании дело обстоит иначе, чем в развитии естественных наук. В нем реализуется не линейный прогресс постепенных накоплений, а категориальная взаимосвязь всего мыслимого содержания. Казалось бы, здесь также можно говорить о растущей конкретизации понимания сущего и, таким образом, распространить понятие прогресса и на философию. То, что это не так, является практически общим местом в гуманитарных дисциплинах. Всякий «прогресс» в философии локален, ограничен, чаще всего, узкими временными рамками. Происходит смена типов философствования, их накопление в истории не образует восходящую последовательность.
Но если отсутствует прогресс в философской деятельности, не является ли она всего лишь элитарной «игрой в бисер», забавной, причудливой и необязательной? В этом случае и пресловутое самосознание общества оказывается пустым (вообще бессодержательным) понятием, которому ничего в действительности не соответствует.
Подвергшееся мощному ортодоксально-идеологическому воздействию, сознание отечественного интеллектуала практически утратило навыки последовательного и глубокого мышления, но зато наловчилось правильно угадывать те ответы, которые от него ожидаются. Он, собственно, не интеллектуал (и не интеллигент), а «работник умственного труда», одна из разновидностей пролетария.
Заданный выше вопрос, в частности, обычно понимается как риторический, не содержащий проблемы и ответ на него не задержится: философия очень важна с точки зрения формирования правильного, научного мировоззрения и т.д. Здесь возникают большие подозрения, что субъект просто принимает навязываемые ему правила социальной игры и тогда игровой характер философии подтверждается.
Игра действительно составляет антитезу понятия развития (прогресса), и, по-видимому, является адекватной формой философского творчества. Теперь отбросим в нашем вопросе ненужный оборот «всего лишь» и просто признаем: да, это игра, но – в ее стихии рождаются смысловые вселенные, это игра божественного со-творчества. Она необязательна для ленивого сознания, закрытого от смысла, но, так или иначе, осмысленность бытия поверх его эмпирической фактичности составляет необходимую компоненту нормального человеческого сознания.
Игра разворачивается «в никуда» из «ниоткуда» на фоне и по правилам небытия, пустоты, в неданности человеку. Ему не дано обладать ее смыслом, но не потому, что он сверхсложен и недоступен, а в силу отсутствия возможности его воспроизводства. Иному, нечеловеческому сознанию соответствует не иная философия, а нечто, ее заменяющее, вообще иное. Нельзя сказать, что это иной смысл, поскольку любое многообразие смыслов уясняется в самопознании человека. То содержание, которое оценивается как смысл, есть человеческое. Здесь же, в безместье, смысл гаснет. Такое положение мы понимаем как небытие, хаос.
Вот здесь возникает первая и фундаментальная граница в осмыслении бытия, разделяющая реальность на мир (миры) человеческой онтологии и, с другой стороны, все прочие бесчисленные совокупности немыслимых конфигураций сущего. Человек адекватен Вселенной своего, антропного космоса и для него как существа с определенной онтологической нишей существования эта граница в полной мере непреодолима. Трансформация человеческой субъективности может позволить ему проникнуть в иные семантические миры, но движение за исконные пределы человеческого бытия чревато потерей человечности.
Эта фундаментальная граница очерчивает человеческие миры, и ее установление-открытие есть основной вопрос философского поиска. Его суть составляет уяснение последней, не обусловленной и подлинной действительности, которая обнаруживает себя на данной границе в виде фиксированных на ней неразложимых далее первопричин и метапринципов.
По отношению к этой супергранице, которую стремится достичь каждый философ в поисках пра-форм, архетипов и первосущности, все остальные носят внутренний и подчиненный характер, они вполне проницаемы человеческим сознанием: вопросы о первичности субъективного или объективного, познаваемости мира. Первый вопрос вообще есть псевдовопрос, он сформулирован правдоподобно, но не философски корректным образом, поскольку подразумевает однозначный и окончательный ответ. Он содержит ключевое слово «первичность», трактуемое совершенно абстрактно, в безусловном значении, т.е. оно берется как само собой понятное, бытовое. Такая трактовка ограничивает круг возможных ответов столь же простыми вариантами. Понятия субъекта и объекта, мышления и бытия, также фиксированные в нем, обладают широким, далеко не элементарным и легко просматриваемым смысловым диапазоном, так, что мы можем, в свою очередь, спросить: о чем идет речь? О каком бытии? О каком мышлении? Что есть бытие и мышление? Что мы сравниваем?
Второй вопрос также нуждается для своего понимания в дополнении непростым контекстом. Гегель, например, говорил о мощи познания, которой не может противостоять ни один объект. Это, безусловно, так, объект раскрывается познанию, но что, если сущее явлено не в модусе объекта? Что, если мы исследуем феномен, представляющий собой нерасторжимую «смесь» субъект-объектных характеристик – далеко не надо ходить в его поисках, таковы история, общество, личность, духовность, внутренний опыт переживания реальности? Безудержный оптимизм всепроникающего познания должен смениться более разумной установкой на необходимость основательного пересмотра всей суммы средств, принципов и методов, чтобы выйти из замкнутого и ослепляющего круга самопорождающейся объективации.
И, наконец, последний тип границы, присущий в большей или меньшей степени гуманитарному познанию вообще, а философскому особенно. Он выражен в принципиальной и неустранимой неопределенности философского (качественного гуманитарного) текста, проявляющейся в присутствии в нем замкнуто-эзотерической компоненты слова, таинства недоговоренности, которая не может быть исполнена въяве, притом, что все, тем не менее, сказано. Отсюда известная метафоричность текста, разброс значений и трактовок, необъясненность «до конца» - не потому, что философ сам «не знает», а по причине запредельности его знания, укорененности этого знания в не-знании, в немыслимом.
Полноты ради, можно указать еще одну, необязательную, но встречающуюся границу, имеющую психологические основания. Любой философ, каким бы искушенным он ни был, всегда имеет свой уровень «распредмечивания» мира, за которым его высказывания будут поражать своей наивностью и непродуманностью. Наивность некоторых философов проявляется в незнании этой границы и, как следствие, в святой вере в свое учение, свои мысли, суждения, оценки. Многие ли могут отнестись к своему внутреннему миру сдержанно и скептически?
Случайное и существенное он не просто, разумеется, «озвучивает» как данное ему в готовом виде, объективно, но распоряжается имеющимся материалом от лица Соавтора, устанавливая поле первоначальных смыслов. Насколько он находит существенное и отбрасывает случайное, настолько и существенное находит его, происходит процесс раскрытия субъекта. В дальнейшем отброшенное случайное может поменять свой статус малозначащего события, и это свидетельствует об углублении самопознания. Вообще разумный общий ход событий таков, что доля случайного в нем уменьшается: осуществление индивида составляет его растущую существенность.
Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел языкознание
|
|
