Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Ваш комментарий о книге
Цветков С. Узники Бастилии
Глава четвертая. Бастилия при Людовике XIV
Новая эпоха
Людовик XIV стал королем в пятилетнем возрасте и, пожалуй, вряд ли мог припомнить то время, когда к нему еще не обращались «Ваше Величество». Между тем обстановка, в которой прошло его детство, наносила жестокие удары столь рано осознанному королевскому достоинству. Властолюбие матери, постоянные притеснения со стороны кардинала Мазарини, интриги принцев и народные волнения во времена Фронды – все эти покушения на суверенитет королевской власти оставили глубокие раны в его душе. Придворные, стремясь угодить кардиналу, сторонились малолетнего короля, и мальчик часами бывал предоставлен самому себе. Позже Людовик вспоминал, как однажды чуть не утонул, упав в бассейн, и спасся только потому, что рядом случайно оказался кто-то из прислуги. Впечатления детства до предела обострили в Людовике властолюбие и непомерно раздули в нем тщеславное самолюбование, доходившее до самообожания. «Людовику выпало редкое счастье быть любимым самим собой», – писал Вольтер. Первый дошедший до нас его автограф – это копия с прописи: «Пред королями должно преклоняться; они делают все, что им угодно». Впоследствии Людовик нашел более емкую формулу для выражения этой мысли: «Государство – это я».
Следует отдать ему должное: молодым королем нельзя было не залюбоваться. Людовик обладал приятной, можно даже сказать, красивой внешностью. Среднего роста, он казался выше благодаря представительной осанке и величественному виду. У него был высокий, слегка покатый лоб, длинный, правильной формы нос, четко очерченный подбородок; карие глаза глядели гордо и вместе с тем мягко, походка сочетала в себе грацию и торжественность. Людовик выглядел прирожденным монархом. Венецианский посол писал о нем: «Если бы судьба и не дала ему родиться великим королем, то несомненно, что природа наделила его такой внешностью».
Король мог очаровать не только своей красотой. В молодости он не раз выказывал свою силу, ловкость и грацию, участвуя в турнирах, копьем снимая на скаку кольца, танцуя в балетах и играя на сцене. Помимо того, он читал много романов, стихов, театральных пьес и любил поговорить о литературе. Его сестра вспоминала: «Когда он излагал свое суждение об этих вещах, он излагал его так же хорошо, как очень начитанный и в совершенстве владеющий предметом человек. Я никогда не встречала такого здравого смысла и меткости языка». Конечно, чтобы верить этим словам, надо иметь безусловное доверие к художественному вкусу их автора, но покровительство, оказываемое Людовиком Мольеру, Расину, Боссюэ и другим выдающимся писателям, подтверждает правоту приведенного высказывания.
Светские манеры короля были безукоризненны. Он был чарующе обходителен с дамами и приподнимал шляпу даже перед горничными. Слушать собеседника он умел «как никто на свете», по выражению современника.
Как заметил Э. Лависс, у него не было того специфически французского остроумия, которое вкривь и вкось издевается над людьми и чувствами. Сен-Симон, касаясь в мемуарах манеры короля вести разговор, пишет: «Никогда ничего больно задевающего в беседе». Всегда спокойный, в совершенстве владеющий своими чувствами, Людовик порой позволял говорить себе очень резкие вещи; вспышка его гнева была целым дворцовым событием, случающимся чрезвычайно редко. Но здесь следует учесть, что суровая жизненная школа, которую король прошел в юности, необходимость опасаться людей и взвешивать каждое свое слово сделали из него ловкого притворщика, хотя, как свидетельствует Сен-Симон, он никогда не опускался до лжи.
С годами пагубная привычка к лицемерию окончательно вытравила из сердца Людовика способность не только к любви, но даже и к простой симпатии. Постепенное самообожествление (помимо неограниченной власти сознание короля отравлял фимиам самой нелепой и чудовищной лести, расточаемой его министрами – все больше неродовитыми дворянами, обязанными своим выдвижением одной королевской милости, «выскочками», которыми Людовик старался заменить старую знать, скомпрометированную в его глазах участием в Фронде) окончательно отучило его считаться с людьми, принимать во внимание их чувства и нужды. Приводить примеры этого бездушия можно без конца, но вот одна характерная мелочь: госпожа де Ментенон, наиболее влиятельная любовница, а по некоторым сведениям и морганатическая супруга Людовика, часто простужалась во время прогулок в королевской карете, так как король, любивший свежий воздух, никогда не закрывал окна в дверцах; тем не менее за всю свою тридцатилетнюю совместную жизнь с этим беспримерным эгоистом она так ни разу и не добилась от него позволения хотя бы наполовину прикрыть окна.
По своей натуре Людовик был человек совершенно плотский: страшный обжора и женолюб. Помимо жены, испанской принцессы Марии Терезии, и более менее постоянных любовниц, его повсюду окружал рой прекрасных искательниц счастья, добивавшихся высочайшего расположения, и король охотно дарил его им, – «срывал листья с этого кустарника роз», по галантному выражению одного придворного. Когда Анна Австрийская однажды упрекнула его в дурном поведении, Людовик ответил «с горькими слезами, что он сознает свой грех, что он сделал все что мог, чтобы удержаться, не гневить Бога и не предаваться своим страстям, но что, он вынужден ей признаться, они сильнее его рассудка, что он не может больше сопротивляться их пылу и что он не чувствует даже желания это делать». Вечно влюбленный, он и в семьдесят лет требовал любовной близости у госпожи де Ментенон, своей ровесницы, которая не знала, куда деваться от этих шокирующих ее притязаний. Духовные вопросы стали интересовать Людовика лишь на склоне лет, когда благодаря усилиям госпожи де Ментенон и иезуитов король поверил, что, добавив в свое меню постные блюда и преследуя протестантов, он вполне обеспечит себе спасение и вечную жизнь за гробом – в этом благочестивом убеждении он и скончался.
Впрочем, он никогда не допускал чувственность в сферу политики и умел разделить в себе любовника и государя. Осмотрительность и благоразумие в государственных делах редко покидали его. В тех случаях, когда он не мог сразу дать ясного ответа на какой-либо спорный вопрос, требующий вмешательства, его обычными словами были: «Я посмотрю». А среди правил, которые он записал для себя, значится следующее: «Остерегаться надежды, плохой руководительницы».
Людовик испытывал никогда не утихавшую радость от того, что был королем. «Ремесло короля – восхитительное ремесло», – не уставал повторять он. Чуждый какой бы то ни было созерцательности, он провел свою жизнь в постоянной деятельности. Он был очень вынослив, хотя и страдал расстройством желудка и кишечника – следствие обжорства при плохих зубах, – так что временами испытывал приступы головокружения, тошноты и слабости, повергавшие его в меланхолию. Тем не менее каждый день короля был перегружен делами, и Сен-Симон не слишком преувеличивал, когда писал: «С календарем и часами в руках можно было, находясь от него за триста лье, сказать, что он делает». Эта лихорадочная деятельность под конец утомила Людовика и подорвала его силы. К тому же отдача от этой деятельности зачастую не оправдывала затраченных усилий. К несчастью, Людовик был вполне заурядным человеком, склонным к мелочности. Правда, он понимал трудные веши, когда их ему растолковывали, и даже любил, чтобы ему помогали разобраться в каком-нибудь сложном вопросе, но ум его был пассивен – без всякой инициативы и любознательности, никогда сам по себе не задававшийся никакими вопросами; в нем не было ни постоянной жажды поиска нового, свойственной, например, Петру I – современнику «короля-Солнце», – ни даже простой наблюдательности.
Из всех государственных дел, в которые король считал необходимым вмешиваться, он по-настоящему знал только военное искусство и иностранную политику. Поэтому его царствование прошло в непрерывных войнах, которыми Людовик думал обеспечить себе историческое бессмертие. «Любовь к славе, бесспорно, стоит на первом месте в моей душе», – говорил он. Самоанализ не относился к числу его сильных сторон, и здесь он явно ошибался. Сен-Симон был гораздо ближе к истине, когда, имея в виду Людовика XIV, утверждал, что «тщеславия в нем было больше, чем славолюбия» (он передает даже, что король, забывшись, часто напевал хвалебные гимны, сложенные в его честь). Именно тщеславие Людовика XIV в конце концов вооружило против него всю Европу и привело Францию на край гибели.
В царствование Людовика XIV Бастилия вступила в наиболее знаменитую свою эпоху, ознаменованную громкими судебными процессами, которые окружили ее таинственным ореолом. Это было время, когда Париж наводнился магами, колдунами, отравителями и фальшивомонетчиками, это было время Железной Маски. В те годы комендант Бастилии получал от министров секретные письма, вроде следующего: «Милостивый государь, в случае если кто-нибудь придет разузнавать об арестованном, который сегодня утром препровожден господином Дюгре в Бастилию по королевскому приказу, то прошу вас не давать никаких сведений; согласно воле Его Величества и препровождаемым при сем приказом является желательным, чтобы никто не знал о вышеупомянутом арестованном решительно ничего, даже его имени».
Бастилия оказалась переполнена заключенными, содержание которых значительно ужесточилось. За ее порогом зачастую прекращалось всякое сношение с внешним миром. Арестованные, которых подвергали абсолютной изоляции, почти все принадлежали к одному разряду преступников: это были шпионы иностранных дворов, и, конечно, чем явственней фортуна изменяла армии короля, тем более жестокими становились преследования шпионов.
В журнале, который вел офицер Дюжонка, можно прочитать следующую запись: «В среду 22 декабря, около десяти часов утра, явился профос королевской армии де ла Кост; он передал нам пленника, которого он привел через нашу новую дверь, позволяющую нам во всякое время совершенно незаметно выходить в сад Арсенала. Означенный пленник, по имени д'Эстенген, немец, был женат в Англии. Он был препровожден маркизом де Барбезье по королевскому приказу к начальнику Бастилии, причем последнему было указано, что пленника надлежит содержать секретно и не позволять ему вступать в какие-либо сношения с кем бы то ни было ни лично, ни письменно. Означенный пленник – бездетный вдовец, человек умный и к тому же обладающий серьезными новостями обо всем, что происходит во Франции, в целях передачи этих сведений в Германию, Англию и Голландию; в общем, он честный шпион».
Даже Ришелье был менее жесток к заключенным Бастилии и позволял своим несчастным жертвам наслаждаться последними крохами утерянной свободы – свежим воздухом и общением. В его время окна в Бастилии не заколачивались двойными и тройными ставнями, арестантам позволялось даже собираться в одной комнате. При Людовике XIV узники не имели ни этих, ни каких-либо других льгот.
Дотошное внимание Людовика не обошло и Бастилию. Король сам установил правила содержания в ней заключенных. На бумаге дело обстояло довольно благообразно. Узники должны были получать довольствие соответственно тому званию и сословию, к которому принадлежали. Так, на содержание принца выделялось 50 ливров в день, маршала – 36, генерал-лейтенанта – 16, советника парламента – 15, судьи и священника – 10, адвоката и прокурора – 5, буржуа – 4, лакея и ремесленника – 3. Пища для заключенных делилась на два разряда: для высших сословий (из расчета от 10 ливров и выше) и для низших сословий (меньше 10 ливров). Например, обед первого разряда состоял в скоромные дни из супа, вареной говядины, жаркого, десерта; в постные дни – из супа, рыбы, десерта; к обеду ежедневно полагалось вино. Обеды второго разряда были гораздо скромнее – из менее качественных продуктов и к тому же хуже приготовленные (на прогорклом масле, и т. п.). В праздничные дни – святого Мартина, святого Людовика и на Крещенье – предусматривалось лишнее блюдо: полцыпленка или жареный голубь.
Однако в действительности заключенные не получали положенных порций. Офицеры, тюремщики, повара, сам комендант тюрьмы беззастенчиво наживались за счет денег, выдаваемых казной на содержание арестованных. Достаточно сказать, что комендант Бемо за время начальства над Бастилией скопил состояние в 600 тысяч ливров – а заключенные считали его еще очень добродушным и обходительным начальником. При преемнике Бемо, Сен-Марсе, случалось, что узники умирали от голода. (Надо помнить, что комендант получал содержание только на 42 человека, на которых была рассчитана Бастилия; сверхштатных узников он должен был содержать из своего кармана. В царствование Людовика, особенно в первую его половину, в Бастилии находилось одновременно 200–300 заключенных, и комендант, понятно, экономил на самом необходимом.)
В продолжение всего царствования Людовика XIV вводились усовершенствования в тюремном режиме, и всегда в сторону большей строгости. Впрочем, король не увлекался новизной и охотно возрождал старые тюремные обычаи, вышедшие из употребления.
С увеличением количества заключенных и с введением детальной регламентации обязанностей тюремщиков последние в какой-то мере сами оказывались жертвами Бастилии, будучи вынуждены проводить в ней дни и ночи, боясь в чем-либо преступить устав и стремясь не допустить побега какого-нибудь смелого узника. Тот же Дюжонка, поручик бастильского гарнизона, в своих заметках жалуется на тяжелые условия службы в крепости. «Служа уже около года в Бастилии, – пишет он, – я был обязан исполнять следующее: первым вставать и ложиться последним; нести часто караул вместо офицеров господина Беземо (старший бастильский офицер. – С. Ц. ), каждый вечер делать обход, в неуверенности, что эти господа его сделают, весьма часто запирать двери, не смея ни на кого рассчитывать». И далее он перечисляет другие свои обязанности: ревностно заботиться о замковой страже, не будучи в состоянии ни кому-нибудь довериться, ни положиться на двух офицеров господина Беземо. «Когда комиссары являются допрашивать арестантов, надобно идти за ними в казематы и вести их в залу господина Беземо, проходя через весь двор, и ожидать за дверью часто до восьми часов вечера, чтобы забрать арестантов и развести по местам. Арестантов, которым позволено видеться с посторонними, также нужно выводить из казематов, вести через все дворы в обыкновенную залу, где их ожидают родственники и другие посетители, и оставаться до конца свидания, а потом вести обратно в камеры. То же самое нужно соблюдать относительно тех заключенных-протестантов, с которыми приходят беседовать иезуитские миссионеры, чтобы обратить их на путь истины. Кроме того, необходимо следовать за арестантами, которым дозволяется гулять в саду и на террасе… Всех больных арестантов должно почаще навещать и заботиться о них. К тем, кому нужна медицинская помощь, нужно привести доктора и проверять приносимые им лекарства… С тяжелобольными и умирающими арестантами нужно быть вдвойне заботливым, следить, чтобы их исповедовали и причащали, а который умрет, тому отдать последний христианский долг… Когда прибудет новый арестант, должно осмотреть как его самого, так и его вещи и затем отвести его в назначенный номер. Сверх того надо озаботиться, чтобы снабдить комнату всем необходимым, для чего приходится дорого платить обойщику господина Беземо или его домоправительнице. Необходимо также обыскивать арестантов, получивших полное освобождение, и осматривать их вещи до выхода из замка, поскольку другие заключенные через них пытаются подать о себе весть родным и друзьям… Посещать все комнаты и обыскивать их и живущих там арестантов. Точно так же надо обыскивать всех, кто выходит из замка с бельем, предназначенным для починки или стирки… В числе арестантов ежедневно встречаются такие, которые имеют в чем-либо надобность или хотят пожаловаться на плохое качество пищи или дурное обращение с ними тюремщиков; эти арестанты обязаны стучать в дверь, чтобы заявить о своих нуждах, и тогда необходимо их навестить, что бывает очень часто. Надобно наблюдать за пищей арестантов, за вином и бельем, предназначенными для них, ибо все это часто бывает дурного качества… Часто осматривать всю посуду, обыкновенно подаваемую арестантам, „которые пишут нередко на блюдах и на тарелках, передавая друг другу весть о себе“… В годовые праздники предстоит забота, чтобы те арестанты, кому это дозволено, были у обедни, исповедовались и причастились… Несколько раз днем и ночью надобно обходить снаружи замок для воспрепятствования арестантам из разных башен переговариваться между собой, а также посылать солдат забирать людей, которые подают знаки знакомым узникам, и часто это бывают освобожденные арестанты, которые желают оказать услугу товарищам, оставшимся в неволе».
Ужесточение условий заключения шло рука об руку с возраставшим произволом власти. Людовик XIV выбрал Бастилию орудием своих личных целей. Начиная с его правления во Франции окончательно привыкают к мысли, что в Бастилию можно попасть без всякой вины, по одному королевскому капризу, – достаточно было обнаружить обыкновенную силу характера, проявление которой король считал личным оскорблением.
Ришелье тоже использовал Бастилию в личных целях, но он, по крайней мере, старался оправдать или прикрыть личную месть интересами государства. Его жертвы имели печальное утешение быть судимыми и выслушать свой приговор; притом Ришелье допускал некоторую гласность суда и наказания.
Людовик XIV повел дело иначе. При нем людей сажали за что угодно, но в графе тюремных протоколов, где означался род преступлений, чаще всего были слова: «памфлетисты и янсенисты ». Потом, в разряде преступлений против религии Людовик XIV ввел новые подразделения и к янсенистам прибавил «дурных католиков».
После уничтожения Нантского эдикта религиозные преступления распались на четыре категории: янсенизм, «дурной» католицизм, протестантство и атеизм. Эта весьма тонкая классификация была незнакома даже инквизиции.
Часто род преступления и вовсе опускался – это не требовало объяснений заключения и не допускало возражений и жалоб. Случалось, что узник томился в Бастилии долгие годы, так и не зная причины своего заточения. «Заключенный в Бастилию, некто Вакке, – пишет военный министр Лувуа коменданту тюрьмы, – жалуется королю, что находится в заточении 13 лет и не знает своей вины; прошу вас, известите меня, кем подписан приказ о его аресте, для того чтобы я мог доложить об этом Его Величеству».
Так как после заточения кого-либо в Бастилию большинство относившихся к делу бумаг уничтожалось, то иногда и сами министры забывали причины того или иного ареста. Один из них писал коменданту тюрьмы: «Я получил приказание короля узнать от вас, кто такой некто Дюмени, содержащийся в Бастилии, сколько лет он уже заключен, какова причина, по которой он там находится». Подобные запросы делал и Лувуа: «Препровождаю к вам письмо господина Коке, относительно которого король приказал мне узнать от вас, если вам это известно, кем подписан приказ, на основании которого он посажен в Бастилию»; или: «Милостивый государь, прошу вас, известите меня, кто такой Пиа де ла Фонтен, который уже в продолжении пяти лет находится в Бастилии; не вспомните ли вы также, за что он был арестован» и т. д.
В Бастилию часто попадали иностранцы – в силу договоров, заключенных между Францией и другими государствами. Так, Людовик XIV заключил в Бастилию датскую подданную Маргариту Карита, обвиненную на родине в заговоре, угрожавшем жизни датского короля. В 1690 году он предупредительно избавил английского короля от некоего Пранкура, которого сам Яков II не смел тронуть открыто. Эта история стоит того, чтобы остановиться на ней подробнее.
Дворянин Пранкур, умный, хорошо образованный молодой человек, имел несчастье надоесть Якову Стюарту. Чтобы избавиться от него, король отправил его с каким-то формальным поручением в Германию через Францию, предупредив Людовика XIV о своем нежелании когда-либо вновь увидеть своего посланца в Англии.
Пранкура арестовали в Париже, ночью. Причину ареста так и не смогли выдумать; впрочем, сошло и так. За свою исковерканную жизнь Пранкур мог отомстить только тем, что однажды пририсовал углем рога к изображению Людовика XIV, висевшему в одной из комнат или коридоров Бастилии, и надписал: «Оружие Франции» («Aux armes de France»).
Возмутительному произволу подвергся генуэзец Дельфино, секретарь графа Вальштейна. Дельфино был арестован вместе с графом в 1703 году, в нарушение всех международных прав, в открытом море, на итальянском судне. Через год графа освободили, а Дельфино оставили в неволе. Однажды он повздорил с тюремщиком и спустил его с лестницы, за что жестоко поплатился. Тюремщик вернулся с подкреплением, приказал товарищам держать Дельфино за руки, а сам взял любимую собачку генуэзца, размозжил ей голову о стену и перемазал ее кровью лицо Дельфино. Затем его бросили в каземат.
В то же время в одном из казематов томился граф Риччиа, глава неаполитанского заговора против испанского короля Филиппа V, внука Людовика XIV. Его подвергли пытке и держали в Бастилии одиннадцать лет, после чего перевели в Орлеан под надзор полиции.
И это были далеко не самые вопиющие случаи захвата иностранных подданных, в чем читатель сможет убедиться чуть позже.
В конце XVII века место, где находилась Бастилия, претерпело некоторые изменения. Линия укреплений, воздвигнутая одновременно с Бастилией при Карле V, была окончательно снесена, а вокруг громадной мрачной тюрьмы возник небольшой процветающий квартал: тут селились цирюльники, башмачники, продавцы напитков, лавочники, торговцы дичью и сыром. Жизнь кипела всего в двух шагах от непроницаемых стен и подземных казематов, в которых глохли крики отчаяния и рыдания жертв королевской мести.
Падение суперинтенданта Фуке
Кардинал Мазарини умер в 1661 году. «Никогда, – пишет Вольтер, – не было больше интриг, чем во время агонии Мазарини. Женщины, слывшие красавицами, льстили себя надеждами владычествовать над двадцатидвухлетним монархом… Молодые куртизанки верили, что вновь возвратится время фавориток. Каждый министр надеялся оказаться на первом месте. Ни одному из них не приходило в голову, что король, воспитанный вне государственных дел, осмелится надеть на себя ярмо управления». Каково же было удивление министров, когда на их вопрос: «Сир, к кому отныне мы должны обращаться со всеми вопросами? (подразумевалось: кто будет вашим первым министром?)» – Людовик ответил коротко и просто:
– Ко мне.
Этот ответ всех поразил – ведь до сих пор король только подчинялся. Среди немногих лиц, пропустивших мимо ушей слова короля, был суперинтендант финансов Никола Фуке – это погубило его. А единственным человеком, который действительно понял их, стал Жан Батист Кольбер, что и обеспечило ему необыкновенный взлет.
Современник так описывает внешность Кольбера: «Среднего роста, уши торчком, угрюмая физиономия, вечно сальные черные волосы – он благоразумно носил скуфейку – жесткий, даже непреклонный взгляд, словом, добропорядочный юноша…»
Этот добропорядочный юноша родился в семье лавочника и очень стыдился своих родителей, вследствие чего приписал себе благородное происхождение, выдумав предков-шотландцев, якобы приехавших во Францию в XIII веке. Он даже сделал фальшивое надгробие для их мифических останков.
Кольбер был образцовым бюрократом, одержимым порядком. Первым успехам своей карьеры он был обязан Мазарини, который использовал его в основном как личного казначея.
За два дня до смерти кардинал вместе с королем составил список нового министерства. При этом Мазарини сказал:
– Я всем обязан вам, Ваше Величество, но думаю, что несколько уплачу свой долг, оставив вам господина Кольбера. – И, помолчав, добавил: – Государь! Умейте уважать сами себя, и вас будут уважать все. Не имейте никогда первого министра, а сноситесь с господином Кольбером во всех случаях, когда вы будете иметь нужду в умном и преданном человеке.
С тех пор Кольбер сделался постоянным советчиком короля в финансовых вопросах.
Но на роль заместителя умершего кардинала с гораздо большим правом претендовал суперинтендант Фуке, финансовый гений того времени. Это был выходец из средних слоев «дворянства мантии» – его отец был советником Парижского парламента. Фуке сделал головокружительную карьеру. В шестнадцать лет кардинал Ришелье назначил его советником в парламент Меца; в двадцать пять он стал инспектором малого Королевского совета, в двадцать семь – главным интендантом Северной армии. В самый разгар Фронды его назначили главным интендантом королевской армии, осаждавшей Париж. Наконец, Мазарини отдал ему должность суперинтенданта финансов всего королевства; кроме того Фуке купил должность генерального прокурора Парижского парламента , что сделало его лицом неприкосновенным.
Получив в свое единоличное распоряжение казну, Фуке помог кардиналу стать самым богатым человеком Франции. Помимо доверия Мазарини, другой основой его могущества было прочное доверие к нему французских банкиров, желавших иметь его посредником при сделках с нищим королем. У Фуке всегда были деньги, – вот почему в нем нуждались и его терпели, несмотря на то, что и король, и кардинал, и Анна Австрийская прекрасно знали, что суперинтендант зачастую не делал разницы между государственной казной и собственным карманом. Справедливости ради следует заметить, что в те времена такого различия не проводил ни один министр финансов; Фуке же был щедрым меценатом: это он «открыл» Мольера, Лафонтена, Ленотра, Лебрена и многих других выдающихся деятелей французской культуры (все они впоследствии перешли к Людовику XIV «по наследству» вместе с другим имуществом суперинтенданта).
По остроумному замечанию Александра Дюма-отца, Фуке взвалил на себя бремя власти, удовольствий и любви – три вещи, которыми Людовик, к несчастью суперинтенданта, хотел распоряжаться сам. При этом Фуке был чрезвычайно добродушен и почти наивен, ему было присуще благородство поступков, из-за чего он легко попадался на обман: если ему случалось оказать кому-либо услугу, то он сразу полагался на этого человека как на своего сторонника и друга. На врагов он не обращал особенного внимания, уверенный, что всегда сможет купить их симпатии.
Король и Кольбер без труда сошлись в ненависти к этому улыбчивому человеку, который не умел по-настоящему ценить свое могущество и словно не принимал себя уж слишком всерьез; они же относились к себе с ужасающей серьезностью. По словам П. Морана, для неистового труженика Кольбера Фуке, которого никогда не видели работающим, являл собой непереносимо скандальное зрелище. Для Людовика же Фуке был представителем поколения вельмож эпохи Фронды – этих людей король ненавидел всей душой, так как они сохраняли свою независимость и напоминали ему о годах его унижения.
Сразу же после смерти Мазарини Кольбер принялся настраивать короля против Фуке. Он проверял все отчеты суперинтенданта и кропотливо восстанавливал реальные цифры доходов и расходов. Он уверял короля, что при нем, Кольбере, в финансовых отчетах «будет всего лишь два раздела – статья о доходах Вашего Величества и другая, о расходах. В первый день года Вашему Величеству будет представляться ведомость, где подробно будут записаны все доходы Вашего Величества, и каждый раз, как Вам будет угодно подписать ордонанс, я буду просить Ваше Величество вычеркнуть нужную сумму, чтобы знать, сколько фондов остается. Это будет вместо того, что в прошлые времена…»
Однако Фуке был неуязвим, пока сохранял за собой должность генерального прокурора. Чтобы лишить его неприкосновенности, король и Кольбер прибегли к подлой уловке: Кольбер сумел убедить Фуке продать эту должность, намекнув, что король желает видеть его первым министром и что, кроме того, его величество нуждается в деньгах… Простодушный Фуке сам снял доспехи, защищавшие его. Он продал должность генерального прокурора за миллион четыреста тысяч ливров – на четыреста тысяч меньше ее реальной стоимости. Миллион ливров он преподнес королю в качестве займа с необязательной уплатой. Людовик имел достаточно низости принять эти деньги; при этом он радостно воскликнул:
– Он сам попался на крючок!
Весной 1661 года Фуке совершил еще худшую ошибку: он невольно задел личные чувства короля. Людовик в это время оказывал недвусмысленные знаки внимания жене своего брата, герцога Орлеанского. Его ухаживания наконец приобрели скандальный оттенок, компрометирующий герцогиню. Герцог Орлеанский пожаловался на короля Анне Австрийской, и та решила положить в королевскую постель фрейлину, которая смогла бы заставить Людовика забыть о супруге брата. Ее выбор остановился на очаровательной семнадцатилетней Луизе Франсуазе Ла Бом Леблан, маркизе де Лавальер, сироте без приданого. «Довольно хорошенькая, очень слащавая и очень наивная», – пишет о ней Лафайет. Затея королевы-матери увенчалась полным успехом – король без памяти влюбился в Лавальер.
Едва узнав о новом увлечении короля, Фуке задумал сделать из Лавальер свою платную осведомительницу, подобно множеству небогатых фрейлин, состоявших у него на жалованье. Суперинтендант не предвидел, что связь Людовика с ней окажется чем-то большим, нежели однодневной интрижкой. «Несчастье его состояло в том, – пишет П.Моран, – что он был абсолютно уверен в успехе и потому атаковал мадемуазель де Лавальер с навязчивостью, удивительной в этом деликатном человеке». Видимо, Фуке уже ощущал настоятельную потребность иметь при короле глаза и уши, которые помогли бы ему узнать об истинных намерениях скрытного монарха. Он предложил девушке двадцать тысяч пистолей, на что получил от нее ответ, что и двести пятьдесят тысяч не соблазнят ее пойти на это. Лавальер, по-видимому, была единственной женщиной, полюбившей Людовика бескорыстно.
Король, узнав о поступке суперинтенданта, пришел в ярость. Кольбер подлил масла в огонь, намекнув, что Фуке не собирался ограничиться с Лавальер одними деловыми отношениями. С этого дня участь Фуке была решена. Однако подготовка заговора короля против своего суперинтенданта заняла ни много ни мало четыре месяца – таково было могущество Фуке.
Суперинтендант в свою очередь составил план, с помощью которого он надеялся вернуть благорасположение короля. В начале августа 1661 года он пригласил Людовика в свой замок Во-ле-Виконт, где должно было состояться самое необычное празднество XVII столетия. Король ответил согласием, и Фуке немедленно выехал в Во, чтобы сделать необходимые распоряжения.
Известие о том, что король удостаивает суперинтенданта своим посещением, облетело весь Париж. Придворные были заняты одной мыслью – как получить приглашение на бал. Англия, Испания, Италия прислали на праздник своих представителей. Фуке задумал придать торжеству невиданный размах. Более шести тысяч приглашений было разослано им по всей Франции; 100 тысяч рабочих были наняты для выполнения подготовительных работ в Во; 20 тысяч телег с припасами тянулись к замку со всех концов страны. Суперинтендант почти не спал в течение двух недель, пока длилась подготовка к празднеству, назначенному на 17 августа.
Кольбер сам посоветовал королю ехать в Во, уверенный в том, что пышность праздника возбудит в Людовике зависть и сомнения в честности Фуке. Его расчет оправдался: король отправился в Во, полный ненависти и подозрения, с озлобленным сердцем, хотя и с улыбающимся лицом.
Людовик в сопровождении всего двора прибыл в замок к шести часам вечера. Въезд в Во пролегал через арку, над которой возвышался герб суперинтенданта – скачущая белка («фуке» по-бретонски значит «белка»). Фуке встретил короля на верхней ступени лестницы. В кармане у него лежало письмо его друга, госпожи де Плесси-Бельер, в котором она предостерегала его от «страшной опасности»: при дворе все громче поговаривали о том, что против суперинтенданта зреет неслыханный заговор. Но на лице Фуке не было видно никакого беспокойства, как и на лице короля – ни тени душившей его злобы. Они шли навстречу друг другу с широкими приветливыми улыбками.
Прежде всего хозяин предложил гостям прогулку между двумя стенами воды, образованными при помощи 50 больших фонтанов и 200 фонтанчиков. Потрясенный король не мог не вспомнить, что в строящемся Версале почти нет фонтанов – из-за нехватки воды… А Кольбер, склонясь к уху короля, нашептывал ему, что дорогостоящие свинцовые трубы для фонтанов в Во вывезены из Англии и доставлены во Францию без уплаты таможенных пошлин.
После водяных каскадов последовал осмотр дивных садов. Восхищаясь все больше и больше, придворные дошли до апельсиновой оранжереи и возвратились в замок слегка перекусить. Здесь Фуке подарил Людовику его портрет кисти Лебрена, который король принял с видимым удовольствием. Гораздо меньше удовольствия ему доставила картина того же художника, изображавшая Солнце в своем дворце; светило было помещено в центр небосвода, имеющего форму белки, и символизировало Фуке (впоследствии Людовик присвоит себе эту эмблему, видоизменив ее: солнце на фоне звезд).
За столом королю прислуживал сам суперинтендант. Изысканность яств, обилие серебряных и золотых сервизов поразили Людовика. Жадно смотря на массивную золотую сахарницу, стоявшую перед ним, король восхитился:
– Какое прекрасное позолоченное серебро!
– Простите, сир, – поправил его Фуке, – это не позолоченное серебро, это золото.
– В Лувре нет ничего подобного… – процедил сквозь зубы король.
Когда все встали из-за столов, Фуке отвел в сторону Гурвиля, своего ближайшего друга и помощника, и спросил:
– Что говорят обо мне?
– Одни говорят, что вы скоро станете первым министром, другие – что затевается большой заговор с целью вас погубить.
Фуке вздохнул и пригласил гостей на театральное представление. В конце пихтовой аллеи зрителей ждала огромная раковина; перед началом представления в ней появилась наяда, исполнившая эклогу в честь короля. Затем актеры разыграли комедию «Несносные жеманницы» еще неизвестного при дворе драматурга по имени Мольер. Автор впервые сыграл здесь одну из ролей.
По окончании комедии смотрели балет, затем ночь расцветилась снопами огненных искр фейерверка… Под ослепительное сияние в саду шла беспроигрышная лотерея, каждый билет которой приносил ее участникам бриллиантовые и золотые украшения, дорогие материи, породистых лошадей и т. д. На каминах лежали груды золотых монет для желающих играть в карты; казна в этот вечер превратилась в собственность Фуке, который оплачивал все расходы своих гостей.
При свете факелов устроили охоту на дичь, которая бегала по замку и производила страшный беспорядок, к вящему удовольствию охотников. В охоте участвовали и дамы – они лихо гонялись за испуганными животными с пистолетами, заряженными пробковыми шариками.
Праздник удался на славу. Переделки в замке, бассейны, парк, сады, лотерея – все это стоило Фуке 18 миллионов ливров. Но главный сюрприз суперинтендант приберегал напоследок. Когда в два часа ночи король подал знак расходиться, Фуке подошел к нему и попросил его величество всемилостивейше принять замок в дар – этим эффектным жестом он и надеялся разом смести паутину опутавших его интриг. Общий вздох изумления пронесся по саду; Кольбер в эту минуту, наверное, почувствовал, как земля уходит из-под его ног…
Ответ короля поразил всех еще больше: Людовик отказался принять замок в подарок.
Король предпочел отобрать его.
«Семнадцатого августа в шесть часов вечера Фуке был повелителем Франции, – пишет Моран, – в два часа ночи он был превращен в ничто».
Король весь день задыхался от злобы, разглядывая великолепное убранство замка. (Мазарини экономил на нем, и малолетний король часто ходил в заплатках и спал на дырявых простынях, на которых, без сомнения, и родилась его любовь к роскоши.) Кольбер компетентно объяснял ему, что окружающая их роскошь превышает доходы Фуке.
Сев в карету, Людовик отдался во власть обуревавших его чувств. Когда у него делалось такое выражение лица, как теперь, Анна Австрийская называла его ребенком, у которого отняли игрушки. В раздражении откинувшись на подушки, он вскричал:
– Через час Фуке будет арестован по моему приказу!
– Как? – запротестовала королева-мать. – Арестовать хозяина в разгар праздника?
Но Людовик больше не желал ничего слушать.
– Ему придется отчитаться перед всеми! – в ярости кричал он.
Кольберу с трудом удалось убедить его, что перед арестом суперинтенданта нужно принять необходимые меры предосторожности.
27 августа король выехал в Бретань, будто бы для встречи с местным парламентом. На самом деле он хотел нейтрализовать суперинтенданта в его официальной вотчине: помимо всего прочего Фуке был еще и вице-королем обеих Америк, в его распоряжении были выходы к морю и флот, значительная часть которого состояла из кораблей, являвшихся собственностью суперинтенданта. Кроме того, Фуке принадлежал Бель-Иль – хорошо укрепленный замок, где он мог укрыться в случае опасности.
Фуке приехал в Нант вслед за королем и сразу же слег в постель из-за приступа лихорадки. Гурвиль и Пелисон – финансист и писатель, правая рука Фуке с 1637 года, – взывали к осторожности, но Фуке, окруженный поэтами и танцовщицами, с улыбкой говорил им, что скоро станет первым министром, а Кольбер будет арестован; на советы других друзей быть осмотрительнее он отвечал, что признался Людовику во всех ошибках, допущенных при ведении финансовых дел в правление Мазарини, и что король «простил его в выражениях, достойных великого монарха». Некоторые люди с наслаждением предвкушают свою гибель.
Арест Фуке готовился самым тщательным образом. Существует три записки Кольбера, где эта акция расписана по минутам. Непосредственные последствия ареста суперинтенданта были очевидны: государство сразу окажется без денег, откупщики перестанут выплачивать авансы и т. д. Кроме того, по свидетельству Лафонтена, король и Кольбер чрезвычайно опасались внезапности, с которой обычно действовал Фуке, этот неповторимый импровизатор. Поэтому Кольбер старался предусмотреть все; он продумал каждую мелочь – вплоть до бульона, который должны были подать Фуке после ареста.
Операция была поручена отряду королевских мушкетеров под начальством д'Артаньяна – король полностью доверял только его роте. 4 сентября в полдень Людовик вызвал д'Артаньяна к себе и лично распорядился арестовать Фуке. Слова короля показались капитану гвардии столь неправдоподобными, что он попросил письменного распоряжения. Приказ был выдан ему вместе с инструкцией, касавшейся деталей операции, маршрута, которым должна была проследовать карета с арестованным суперинтендантом и т. д. Писцы, составлявшие эти бумаги, были тайно арестованы.
На 5 сентября назначили королевскую охоту. Сорок вооруженных мушкетеров сидели в седлах с самого рассвета. Перед мнимым отъездом король созвал совещание министров. По его окончании Людовик под различными предлогами задержал Фуке. Король все время поглядывал в окно; наконец, убедившись, что во дворе все готово, он отпустил суперинтенданта.
Фуке спустился по лестнице и сразу был окружен толпой, привыкшей по всем вопросам обращаться к нему, а не к королю. Вдруг случилось непредвиденное – д'Артаньян потерял суперинтенданта из виду! Он немедленно известил об этом короля, который промолвил с недоброй усмешкой:
– Ну, я его отыщу!
Спустя несколько минут выяснилось, что Фуке уже уехал в своей карете. Д'Артаньян с пятнадцатью мушкетерами бросился в погоню за ним. Гончие догнали дичь на Соборной площади, где д'Артаньян, попросив Фуке выйти из кареты, объявил ему, что имеет приказ о его аресте.
– Воля короля… – чуть слышно произнес Фуке.
Его отвели в какой-то дом и обыскали. Найденные при нем бумаги сразу отослали королю; затем суперинтенданту предложили предусмотренный инструкцией бульон. После всего этого он был посажен в карету и под конвоем отправлен в Анжер.
Получив известие об успешном исходе операции, король вышел в приемную и объявил изумленным придворным:
– Только что по моему приказу арестован Фуке. Это было решено еще четыре месяца назад. У нас больше не будет суперинтенданта.
«В вечер ареста Фуке, – записал король в мемуарах, – я получил удовольствие, самостоятельно занимаясь финансами». Это означало: казна наконец-то перешла в мои руки.
7 сентября Фуке был доставлен в анжерскую тюрьму. Отсюда начался его двадцатилетний путь по тюрьмам и крепостям. Из Анжера его перевезли в Удон, затем в Агранд, Амбуаз, Тур… Наконец 18 июня 1663 года его заключили в Бастилию. Сорок пять мушкетеров во главе с д'Артаньяном охраняли суперинтенданта вместо обычной тюремной стражи, двое из них безотлучно находились в его комнате.
Кольбер завладел всеми финансовыми бумагами Фуке – с тех пор их больше никто не видел. Он трудился над ними ночи напролет, пытаясь найти доказательства государственной измены суперинтенданта – напрасно. Для смертного приговора Фуке Кольбер хотел доказать, что суперинтендант вынашивал замысел восстания в Бретани. Иначе к чему возводились укрепления Бель-Иля, строился порт (при помощи голландцев), покупались собственные военные корабли?… В поисках компрометирующих документов агенты Кольбера ломали паркет, отдирали обшивку стен замков, принадлежавших Фуке; наконец в одной из комнат Бель-Иля за зеркалом был найден пожелтевший план замка, к которому была приложена инструкция, помеченная: «Воспользоваться этим только в случае беды». Инструкция предписывала госпоже де Плесси-Бельер снестись с бретонскими властями, чтобы они заперлись в своих крепостях; братья суперинтенданта должны были воздействовать на священников и парламент, зять – удерживать Бель-Иль, жена – укрыться в монастырь. Этот давно забытый план времен Фронды стал главным доказательством против Фуке на процессе.
Фуке надеялся, что король спасет его: он так и не понял, что Людовик и Кольбер действовали заодно. Четыре раза он просил короля об аудиенции – некоторые историки считают, что он знал какие-то тайны, с помощью которых рассчитывал обеспечить свою безопасность.
Людовик отказался от встречи с Фуке. Расин слышал, как король говорил Лавальер: «Если Фуке приговорят к смертной казни, я предоставлю ему умереть». А Анне Австрийской, заступавшейся за арестованного, он отрезал: «Я прошу вас впредь никогда не просить о его помиловании».
Король и Кольбер ограбили Фуке, поделив его недвижимое имущество. Они рассчитывали найти у него и огромные суммы наличности, но, к их удивлению, у суперинтенданта не оказалось ничего, кроме непогашенных векселей: даже Во не был оплачен. «Он не только не был богат, он попросту не имел ни гроша», – писала Анна Австрийская госпоже де Мотвиль.
Процесс над Фуке был лишен даже видимости законности. Все следователи были личными врагами суперинтенданта, следствие велось со многими процессуальными нарушениями. Поэтому общественное мнение, поначалу настроенное враждебно к Фуке, вскоре встало на его сторону. Огромную роль в этом повороте умонастроений парижан сыграло поведение писателей, не покинувших своего мецената в трудную минуту.
Пример другим литераторам подал Пелисон, арестованный и посаженный в Бастилию сразу же после ареста Фуке. «Приказчик должен знать больше хозяина», – заметил Людовик и поручил следователям самым строгим образом допросить его, не останавливаясь перед пыткой. Пелисон выдержал все и ничем не выдал Фуке, искренне считая его невиновным. Ему разрешили переписываться, и он с помощью госпожи Скюдери, известной писательницы, анонимно издал «Обращение к королю, написанное одним из его верных подданных, по поводу процесса месье Фуке». (Позднее Вольтер сравнил литературные достоинства «Обращения» с речами Цицерона: «В них государственная и частная деятельность министра разобраны правдиво; все эти мемуары написаны умно и отмечены необычайно трогательным красноречием».)
«Обращение» приобрело широкую известность и дошло до короля, вызвав его раздражение. Полиция дозналась, что книга принадлежит перу Пелисона, и надзор за ним был усилен: у него отобрали чернила, бумагу, перья, запретили гулять и вообще стали содержать хуже, чем прежде. Пелисон откликнулся на эти меры философскими стихами:
Doubles grilles a gros clous,
Triples portes, forts Verrous,
Aux ?mes Vraiment m?chantes
Vous repr?sentez l'enfer;
Mais aux ?mes Innocentes
Vous n'?tes que du bois, de pierres et du fer .
Фуке, отличный юрист, прекрасно знакомый со всеми профессиональными тонкостями, вел процесс как нельзя лучше. В конце концов следствие приняло такое направление, что король объявил парламенту о своем желании закончить его как можно быстрее.
В октябре 1664 года следствие закончилось. 14 ноября открылись судебные заседания. Фуке блестяще опроверг все обвинения. Он бросил в лицо канцлеру Сегье: «Во все времена, даже теперь, когда жизнь моя в опасности, я был на стороне короля. Преступником же против короны и государства следует считать того, кто возглавил Совет его врагов, того, кто отправил своего зятя показать испанцам проходы через горы и помог им дойти почти до столицы королевства». (Все эти вещи проделал Сегье во времена Фронды.) Судьи были так потрясены, что многие подходили к Фуке, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
Париж рукоплескал ему. «В Париже только и говорят, что о его уме и твердости духа», – писала в те дни госпожа де Севинье. На стороне Фуке были Анна Австрийская и маршал Тюренн, который во всеуслышание говорил: «Когда процесс начинался, достаточно было тонкой бечевки, чтобы разделаться с суперинтендантом; теперь его не выдержит и толстенная веревка».
Судьи не смогли уличить суперинтенданта ни в оскорблении величества, ни в заговоре против короля; они обвинили его только в расхищении казны, но это преступление тогда не считалось особенно тяжким – в нем так или иначе были виновны все министры.
20 декабря 1664 года при окончательном голосовании десять судей высказались за смертную казнь, а четырнадцать – за высылку бывшего суперинтенданта за пределы Франции. Вольтер справедливо заметил: «Это писатели и люди искусства спасли ему жизнь». С этого времени, очевидно, и возникло то предпочтение, которое большинство людей во всем мире отдает писателям перед политиками.
Но короля не устраивал такой исход дела. 22 декабря Фуке в Бастилии зачитали приговор и одновременно сообщили, что король, «взвесив для себя опасность, которую представлял Фуке интересам государства, живя за его пределами», заменяет ему высылку на вечное заточение. Париж все же ликовал: Фуке был обелен от всех наветов. Даже д'Артаньян не удержался и поздравил Фуке, на что тот поклонился ему и ответил, что «отныне он его скромный слуга».
7 января 1665 года Фуке отвезли в Пиньероль и отдали под надзор коменданта Сен-Марса. В продолжение тринадцати лет Фуке запрещалось переписываться с родными и видеться с кем-либо. Только в 1678 году режим его содержания был несколько смягчен: он смог гулять по крепости и встречаться с родственниками.
23 марта 1680 года Фуке, во время одного из таких свиданий, упал без чувств на руки сына и тут же скончался от сердечного приступа. Ему было шестьдесят пять лет. Его прах был захоронен в родовой усыпальнице, о чем сохранилась запись в церковной книге.
Пелисон еще некоторое время оставался в Бастилии после того, как Фуке был перевезен в Пиньероль. Над ним не было суда, его держали просто по желанию Людовика. Лишенный бумаги, книг и общения, Пелисон полюбил паука, которого приручил и собственноручно кормил. Однажды тюремщик умышленно раздавил насекомое, чтобы лишить узника этой забавы. Пелисон не выдержал и горько заплакал – впервые за четыре года заключения. У тюремщика хватило жестокосердия всюду хвастаться своим поступком и рассказывать о слезах Пелисона. Эта история дошла до короля, и Людовик, повинуясь чувству жалости, в общем ему не свойственному, выпустил Пелисона из Бастилии в том же, 1665 году.
Нормандский заговор
Нормандский заговор был последней вспышкой феодального сепаратизма во Франции. В него оказался втянут лишь один представитель старой знати – принц Людовик де Роган.
Роган принадлежал к одной из самых знатных фамилий Франции, первой после королевского дома. Некогда богатый, красивый, остроумный, он был душой двора, задавал тон всему и имел толпу друзей и подражателей. Но страшная расточительность и злоупотребление наслаждениями из разряда тех, которые именуются порочными, довели его до бедности и расстроили его здоровье. Умение делать долги считалось тогда главнейшим талантом дворянина; Роган развил этот талант до гениальности. С 1672 года его дела окончательно запутались, бывшие друзья отвернулись от него, его громкое имя было забыто, и теперь его с презрением именовали просто шевалье де Роган.
За несколько лет перед тем он был оскорблен Людовиком XIV: король устроил охоту, не предупредив об этом Рогана, занимавшего при дворе должность обер-егермейстера. Взбешенный таким невниманием к своей особе, Роган в присутствии короля и вельмож сломал свой охотничий нож (то есть отказался от должности распорядителя королевской охоты) и ускакал. Его поступок показался придворным чудовищно дерзким, и они ожидали взрыва гнева со стороны короля, но Людовик сохранил невозмутимость.
После этой выходки Роган уехал в провинцию и жил там уединенно, ожидая случая отомстить королю.
Между тем в Париже созрел заговор, инициатором которого стал Афиниус Ван ден Энден. Этот человек был известен всей образованной Европе. Названный в бастильских протоколах школьным учителем, он был на самом деле доктором филологии, получившим образование в Гааге у иезуитов. По окончании колледжа он принял сан священника, но, не чувствуя призвания к духовному служению, оставил паству и женился. В Амстердаме он открыл частную школу, в которой с невероятной быстротой обучал иностранным языкам по изобретенной им методике; среди его учеников был Спиноза. Кроме того, Энден был известен как философ, занимавшийся политическими вопросами и, в частности, устройством справедливого государства.
Энден был последователем и другом Иоганна де Витта, великого пенсионария (президента) Голландской республики, у которого оспаривал власть штатгальтер (главнокомандующий сухопутными вооруженными силами) Вильгельм Оранский. В 1672 году толпа оранжистов растерзала де Витта и его брата Корнелиуса; убийцы получили от Вильгельма Оранского должности и пенсии. Энден бежал от преследований в Париж, где предложил Людовику XIV свергнуть с помощью своих друзей, оставшихся в Голландии, Вильгельма Оранского, который тогда искал союза с Англией и Испанией против Франции. Людовик заинтересовался этим проектом, но вскоре Энден раскрыл истинные планы короля насчет Голландии (Людовик стремился присоединить Голландию к Франции) и начал действовать против него. Он сошелся с Латреомоном, авантюристом, не столько недовольным королем, сколько ищущим случая разбогатеть, – не важно, каким путем, – и через него вошел в сношения с губернатором Испанских Нидерландов де Монтре, договорившись с ним о совместных действиях против Людовика XIV.
Заговорщики выработали план оккупации Нормандии при поддержке испанской армии и голландского флота. Чтобы вторжение иностранных войск не так сильно оскорбляло патриотические чувства французов, Монтре хотел иметь руководителем восстания кого-нибудь из видных французских вельмож. Тогда-то заговорщики вспомнили о Рогане. Латреомон отправился к нему в поместье, где в доверительной беседе открыл принцу план заговора. Роган согласился возглавить оккупационные войска, и таким образом руководители заговора составили весьма разношерстную компанию, в которой каждый преследовал свои цели: Энден хотел помочь отстоять независимость своей страны, а заодно попытаться осуществить в Нормандии свою республиканско-демократическую утопию; Латреомон надеялся разбогатеть и занять видный пост в независимой Нормандии; Рогана прельщали слава, бурная жизнь, щекочущая нервы, возможность возвратить утраченное положение и отомстить королю.
Были и другие, менее заметные участники заговора: племянник Латреомона, Вильгельм Прео, принявший участие в заговоре по своей бесхарактерности и по привычке слушаться дядю, и маркиза де Вилар, молодая вдова, которая сделалась соучастницей из-за любви к Прео. Оба они не выезжали из Нормандии, где занимались вербовкой местных дворян.
2 июля 1674 года в Париже, в доме Ван ден Эндена, состоялось решающее совещание руководителей заговора. В этот день они получили давно ожидаемые новости. Монтре напечатал в «Голландской газете» условленную заметку, которая означала, что штатгальтер выделяет на экспедицию в Нормандию триста тысяч экю, а голландский флот под начальством адмирала Рюйтера готов высадить в Нормандии двадцать тысяч человек. Было решено, что Латреомон поедет в Руан формировать тайное ополчение из нормандских дворян, а Ван ден Энден отправится в Брюссель для окончания переговоров с Вильгельмом Оранским. Роган должен был остаться в Париже, чтобы не возбуждать подозрений.
Однако гром грянул среди ясного неба.
11 сентября 1674 года Роган приехал в Версаль, где собрался весь двор для приема папского нунция. Во дворце к нему подошел капитан королевской гвардии Бриссак и сказал, что должен поговорить с ним наедине. Когда они вышли из капеллы, где должен был состояться дипломатическии прием, Бриссак тотчас потребовал у Рогана шпагу. Принц, пораженный неожиданностью ареста, не оказал никакого сопротивления.
Рогана посадили в королевскую карету, специально выделенную для этой цели, и препроводили в Бастилию под охраной лейтенанта и четырех солдат. В крепости его встретил комендант Бемо, который уже имел приказ военного министра Лувуа, запрещающий произносить вслух имя арестованного.
Заключенному отвели довольно обширную комнату с одним окном, заколоченным изнутри двойными ставнями; снаружи была толстая решетка. Эта комната стала последним жилищем принца Людовика де Рогана. Окруженный неизвестностью и терзаемый подозрениями, он так и не узнал имени своего предателя.
Этим человеком был адвокат Жером дю Козе де Назель. Усердно посещая лекции Эндена, он постепенно втерся к нему в доверие и узнал, что учитель занимается политическими вопросами не только теоретически, но и практически. Рассчитывая на богатое вознаграждение, Назель 10 сентября написал королю длинное письмо, в котором сообщил все, что знал о заговоре. Доносчик мог назвать одни имена, но не имел никаких улик; тем не менее Людовик отреагировал мгновенно, распорядившись арестовать всех участников заговора.
После ареста Рогана Бриссак отправился в Руан за Латреомоном. Он расставил солдат у дверей гостиницы, где остановился Латреомон, но вошел в его комнату один – они были давними знакомыми. Латреомон еще лежал в постели; ничего не подозревая, он завязал с Бриссаком дружескую беседу. Вдруг Бриссак сказал тем же добродушным тоном:
– Латреомон, я арестую тебя именем короля.
Латреомон оторопел от неожиданности, но быстро оправился и попросил позволения собрать свои вещи. Бриссак не возражал, внутренне радуясь тому, что дело сладилось так легко. Латреомон вышел в другую комнату, а Бриссак тем временем впустил в комнату двух солдат.
Спустя несколько минут Латреомон вернулся, держа в руках два пистолета, из которых выстрелил сразу, как только появился в дверях. Однако пули попали не в Бриссака, а в одного из солдат. Бриссак, желая показать Латреомону, что он не испугался, крикнул ему: «Стреляй!» Второй солдат, приняв это за команду, выстрелил в Латреомона. Пуля попала ему в бок, Латреомон повалился на пол. Его перенесли в постель и послали за лекарем и духовником. Он умер на другой день, ни в чем не сознавшись и только твердя:
– Такая смерть достойна храброго солдата!…
Энден, возвращавшийся из Брюсселя, был арестован в Бурже. В его кармане нашли письмо Монтре, доказывавшее факт сношений с главнокомандующим вражеской армей (в это время шла война с Испанией, и Испанские Нидерланды были превращены в арену боевых действий). Прео и госпожа Вилар были схвачены в Нормандии. Всех их заперли в Бастилии. Вскоре, после одного удачного для французов сражения, была захвачена карета Монтре, спасшегося от преследования верхом, где была найдена его переписка с Ван ден Энденом.
Открылось следствие. Каждое утро, в пять часов, следователь вызывал арестантов в Арсенал на допрос. Первым перед правосудием предстал Энден. Король приказал обращаться с этим «сумасбродом» как можно строже, но Энден молчал или все отрицал. От всего отпирался и Прео, смекнувший, что у следствия нет прямых улик против него; госпожа Вилар созналась в авторстве восьми малозначащих писем.
Фактически следователи имели всего два доказательства преступления арестованных. Первым были шифрованные письма, где Монтре именовался Кверквевином, Фландрия – Марией, Голландия – Маргаритой, а Роган – Марианной, – то были имена зятя и трех дочерей Ван ден Эндена. Латреомон скрывался в них под именем мадемуазель д'Аржан; суммы, которые заговорщики надеялись получить от Испании и Голландии, назывались ценой алмазов, место, где должен был пристать голландский флот, – домом, оружие – обозом, корабли – мешками, вспомогательные войска – лекарствами Кверквевина. Вторым доказательством была копия с договора, заключенного заговорщиками с Монтре, по которому последний обещал выдать им 100 тысяч ливров, а также выхлопотать им пенсион у испанского короля; в заключение он желал Рогану счастья в исполнении его «великодушного намерения», которое, по его словам, предпринималось ради общего блага и спокойствия всей Европы.
Защита подсудимых была возложена на них самих, так как еще в 1670 году Людовик XIV издал указ, где было объявлено, что «подсудимые должны сами отвечать на все вопросы и не имеют права пользоваться советами адвокатов».
Что касается Рогана, то отсутствие его собственноручных писем к Монтре и гибель Латреомона могло бы, пожалуй, спасти его если не от тюремного заключения, то хотя бы от смерти. Однако он оставался в полном неведении относительно хода следствия. Другие узники пытались предупредить его о выгодах его положения, крича по ночам в каминные трубы: «Латреомон умер и ни в чем не признался!» – но тюремное начальство приняло меры, чтобы Роган не мог их слышать.
Людовик чрезвычайно опасался, что Рогану могут устроить побег из Бастилии. Когда его вели на допрос, рота мушкетеров занимала все выходы Арсенала, а комендант Бастилии лично приводил его к следователям и отводил назад в камеру.
Несмотря на полную изоляцию, Роган все же понял, что у следствия нет против него ничего, кроме подозрений. Тогда король прибегнул к подлой уловке. Он послал к Рогану в Бастилию министра Лувуа, который от имени короля обещал ему полное прощение, если тот чистосердечно расскажет обо всем, что знает. Роган поверил и попался в ловушку: признавшись во всем, он выдал и себя и остальных.
Получив признание Рогана, следователи передали дело в суд парламента, который признал арестованных виновными в государственной измене и вынес следующий приговор: «Принц Роган, кавалер Прео и маркиза Вилар осуждаются на обезглавливание на Гревской площади. Афиниус Ван ден Энден будет казнен смертью на виселице».
Когда Рогану зачитали приговор, им овладело отчаяние. Комиссар, читавший бумагу, сделал паузу и продолжил: «Король, принимая во внимание знатное происхождение и оказанные услуги, смягчает приговор суда…» При этих словах лицо Рогана просияло, и он, перебив чтеца, стал горячо благодарить и славить Людовика.
– Потрудитесь дослушать, монсеньор, – холодно сказал экзекутор, – я еще не закончил: «Его Величество смягчает наказание господину Рогану следующим образом: он избавляет его от обыкновенных и чрезвычайных допросов перед исполнением приговора, которому он должен подвергнуться по решению суда».
Он умолк, а Роган молчал, ожидая продолжения, еще не веря, что это конец. Затем он пришел в такую ярость, что перепугал всех присутствующих. Он кричал, что убьет Лувуа, убьет короля, проклинал их обоих и предсказывал им смерть, еще более постыдную, чем та, которую назначили ему. Его едва усмирили при помощи священников. Опасаясь, что он может от отчаяния наложить на себя руки, комендант Бастилии почел за благо надеть на него цепи и приставить к нему постоянного наблюдателя.
Но одного смертного приговора Людовику было мало: Эндена и Прео перед казнью подвергли пытке. Она заключалась в том, что ноги пытаемого сдавливали двумя дубовыми досками, соединенными железным обручем; между колен вставляли деревянные или железные тетраэдры, утыканные гвоздями. Пытка эта всегда сопровождалась обмороками и часто – смертью.
Семидесятичетырехлетний Энден совсем обессилел от мучений, его колени были буквально истолчены, как в ступе. Последний вопрос, на который Людовик хотел получить от него ответ, был: верит ли он в Бога? Старик, находясь при последнем издыхании, прошептал: «Да». Судьи составили протокол и дали ему подписать.
Роган и госпожа Вилар были избавлены от пытки – первый, как уже было сказано, по милости короля, а вторая благодаря тому, что родилась женщиной.
27 ноября 1674 года в семь часов утра все улицы в Сен-Антуанском предместье были заняты королевской гвардией и двумя ротами конных мушкетеров. На Бастильской площади возвышались три эшафота, между которыми стояла виселица. Башни и стены крепости были заполнены солдатами и офицерами, толпы народа стекались сюда со всего Парижа.
В половине третьего люди увидели, как Роган, с обрезанными волосами и связанными руками, вышел из Бастилии, высоко подняв голову и ни на кого не обращая внимания, – видимо, сознание неизбежности смерти придало ему силы. За ним шел Прео, который, несмотря на перенесенные мучения, испросил разрешение идти пешком; за ними ехала тележка с Энденом и госпожой Вилар. Энден проявлял признаки слабости и малодушия, что было приписано современниками его глубокой старости. Роган, увидев страдания старика, растрогался.
Осужденных поставили каждого перед своим эшафотом.
Рогана первого возвели на эшафот, завязали глаза и поставили на колени. Было очень холодно, и священник накинул ему на плечи свой плащ; в то же мгновение палач снес Рогану голову. Тело его выдали родственникам, которые, выполняя волю покойного, похоронили его в Жуарском аббатстве.
Прео в это время не сводил глаз с госпожи Вилар, которая, в свою очередь, шептала ему последнее «прости». Он не позволил завязать себе глаза и умер, глядя на нее. Его голова скатилась на землю, как будто желая покоиться у любимых ног; ее бросили обратно на эшафот.
Госпожа Вилар умерла, громко читая молитву.
Очередь была за Энденом. Он был повешен помощниками палача, так как сам палач сослался на усталость.
Казнью Рогана Людовик XIV окончательно поставил на колени родовитое дворянство, которое с тех пор превратилось в высокопоставленную дворцовую прислугу, целиком зависящую от милости короля.
Герцог де Лозен
В 1688 году появилась знаменитая книга Лабрюйера «Характеры, или Нравы нашего века». В конце главы «О дворе», говоря о некоем Стратоне, автор заметил, что жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Современники без труда узнали в Стратоне герцога де Лозена.
Лозен происходил из гасконского рода Комонов. Он был третьим сыном в семье и в молодости носил имя маркиза де Пюигильена.
Сен-Симон, близко знакомый с ним, рисует внешность и характер Лозена следующим образом: «Он был невысок, белобрыс, для своего роста довольно хорошо сложен, с лицом высокомерным, умным, внушающим почтение, однако лишенным приятности… был он крайне тщеславен, непостоянен, полон прихотей, всем завидовал, стремился всегда добиться своего, ничем никогда не был доволен, был крайне необразован… характером обладал мрачным, грубым; имел крайне благородные манеры, был зол и коварен от природы, а еще больше от завистливости и тщеславия, но при всем том бывал верным другом, когда хотел, что случалось редко, и добрым родственником; был скор на вражду, даже из-за пустяков, безжалостен к чужим недостаткам, любил выискивать их и ставить людей в смешное положение; исключительно храбрый и опасно дерзкий, он как придворный был наглым, язвительным и низкопоклонным, доходя в этом до лакейства, не стеснялся в достижении своих целей ни искательства, ни козней, ни интриг, ни подлостей, но при том был опасен для министров, при дворе всех остерегался, был жесток, и его остроумие никого не щадило». Иначе говоря, Лозен был обаятельным мерзавцем, провозвестником того типа французских аристократов, чей личный и кастовый эгоизм уже не имел противовеса в виде военных и государственных заслуг.
Юный маркиз де Пюигильен прибыл ко двору без гроша в кармане. Фуке одолжил ему немного денег на первое время, а затем его приютил маршал де Грамон, двоюродный брат его отца. Юноша сумел понравиться госпоже де Монтеспан, любовнице короля, царившей тогда при дворе; вскоре он сделался также любимцем Людовика, который дал ему только что сформированный гвардейский драгунский полк и придумал специально для него должность генерал-полковника драгун.
Но юный честолюбец рассчитывал на большее, и в 1661 году, когда открылась вакансия на должность фельцехмейстера артиллерии, попросил ее у короля. Людовик пообещал передать артиллерию под его начало, поставив одно условие – несколько дней держать назначение в тайне (видимо, чтобы избежать докучных разговоров и неизбежных объяснений с другими просителями).
Пюигильен провел эти дни как на иголках. Наконец настал срок, когда король должен был объявить о его назначении. Пюигильен с утра вертелся в Сен-Жерменском дворце, ожидая, пока король выйдет с заседания совета по финансам. В одной комнате с ним находился дежурный камер-лакей Ниер; он поинтересовался, что привело маркиза во дворец в столь ранний час. Пюигильен, уверенный в благополучном исходе своего дела, выложил ему, не таясь, их с королем секрет. Ниер горячо поздравил его, вытащил часы и, сказав, что у него есть еще одно важное поручение, сломя голову помчался по малой лестнице наверх, где размещалось военное ведомство Лувуа, чтобы сообщить министру сенсационную весть.
Лувуа неприязненно относился к Пюигильену – из-за того, что ему покровительствовал Кольбер, – и, разумеется, не хотел, чтобы должность, так тесно связанная с его ведомством, оказалась в руках его врага. Выслушав Ниера, Лувуа расцеловал его и отпустил, после чего взял какие-то бумаги, чтобы иметь предлог обратиться к королю, и поспешил в зал заседания Королевского совета.
При его появлении удивленный Людовик встал и пошел ему навстречу. Отведя короля в оконную нишу, Лувуа заговорил о том, что знает о намерении его величества отдать Пюигильену артиллерию; он заклинал короля не делать этого ввиду капризного характера генерал-полковника драгун, каковой, по его мнению, послужит причиной неизбежных ссор между ним и военным ведомством.
Людовик, крайне раздосадованный болтливостью Пюигильена, заявил министру, что еще ничего не решил, и отпустил его. Чуть позже, когда совещание закончилось, он вышел из комнаты и молча прошел мимо воспрянувшего Пюигильена, не удостоив его даже взглядом. Изумленный Пюигильен, видя, что обещанного назначения не произошло, обратился к королю при вечернем раздевании, прося его объяснить, что случилось. «Ваше назначение пока что невозможно, – сухо ответил король. – И вообще я еще посмотрю».
По уклончивости ответа и холодному тону, которым он был дан, Пюигильен догадался, что дело неладно. Он обратился к королевской фаворитке госпоже де Монтеспан, умоляя ее похлопотать за него перед королем. Та с легкостью обещала оказать содействие, но, разузнав, что король недоволен Пюигильеном, так же легко забыла свое обещание; тем не менее она продолжала ободрять маркиза надеждой на успешный исход дела.
Потеряв терпение и ломая голову над тем, что могло стать причиной этих проволочек, Пюигильен, рассказывает Сен-Симон, «решился на поступок, который можно было бы счесть невероятным, если бы он не свидетельствовал о нравах тогдашнего двора». Говоря коротко, маркиз переспал с горничной госпожи де Монтеспан и добился от нее того, что девушка разрешила ему спрятаться под кроватью своей госпожи перед тем, как к ней придет король (благопристойный Людовик проводил ночи неизменно в постели с королевой, но во второй половине дня имел обыкновение посещать своих любовниц).
Через некоторое время ничего не подозревающие король и госпожа де Монтеспан уединились в ее спальне, прямо над притихшим Пюигильеном. Как и ожидал маркиз, разговор коснулся его, и он узнал обо всем: и о гневе короля на его несдержанность, и о противодействии Лувуа его назначению, и о решении короля отдать эту должность другому; кроме того, он услышал, как госпожа де Монтеспан поддакивает и всячески чернит его перед Людовиком.
Можно только догадываться, что чувствовал Пюигильен во время этих разговоров и потом, когда любовники надолго замолчали, но он ни малейшим шорохом не выдал своего присутствия. «Везения у него было больше, чем благоразумия, и его не обнаружили», – говорит Сен-Симон.
Дождавшись, когда спальня опустела, Пюигильен выбрался из-под кровати и, тщательно стряхнув пыль с костюма, как ни в чем не бывало устроился у дверей покоев госпожи де Монтеспан, которая переодевалась, чтобы пойти на репетицию балета. Предложив руку вышедшей фаворитке, он «с самым спокойным и почтительным видом» спросил, смеет ли он надеяться, что она соблаговолит-таки напомнить о нем королю. Госпожа де Монтеспан заверила, что не забыла о его просьбе, и принялась расписывать, с каким усердием она ходатайствует за него. Пюигильен «дал ей время вконец завраться» и тогда, склонившись к ее уху, сообщил ей, что она «лгунья, дрянь, мерзавка, сучка», и слово в слово пересказал ее последний разговор с королем.
Госпожа де Монтеспан была так поражена, что едва добрела до места репетиции, где упала без сознания на руки королю. Вечером она пересказала Людовику свой разговор с Пюигильеном. Оказывается, ее потрясение было вызвано уверенностью в том, что осведомленность Пюигильена объясняется не чем иным, как вмешательством дьявола. Людовик, пришедший в ярость от тех оскорблений, которые пришлось выслушать госпоже де Монтеспан, недоумевал не меньше ее, хотя и не впутывал в эту историю нечистого.
С этого времени между Пюигильеном и королем возникла враждебная натянутость. Несмотря на это, Пюигильен через несколько дней возобновил разговор о своем несостоявшемся назначении, дерзко настаивая на выполнении данного ему обещания. Король коротко ответил, что считает себя свободным от данного им слова, поскольку Пюигильен нарушил поставленное условие хранить дело в тайне. Тогда Пюигильен повернулся спиной к королю, выхватил из ножен шпагу и яростно преломил ее о колено, вскричав, «что в жизни больше не будет служить монарху, который столь недостойно не держит слова».
«Разгневанный король, – пишет Сен-Симон, – в тот миг совершил, быть может, самый прекрасный в своей жизни поступок: распахнул окно, выбросил в него трость, сказав, что никогда бы не простил себе, если бы ударил столь знатного дворянина, и вышел».
На следующий день Пюигильен был арестован у себя дома и посажен в Бастилию. Его содержали без особой строгости, и маркиз, как видно из дальнейшего, не почувствовал ни капли раскаяния.
Де Гитри, близкий друг Пюигильена, осмелился вступиться за него перед королем. Ему удалось убедить Людовика, будто неслыханное поведение маркиза объясняется тем, что он потерял голову, получив отказ от столь значительной должности, на которую полностью рассчитывал. Король объявил о своем намерении забыть произошедшее и в знак примирения попросил Пюигильена принять вместо должности фельцехмейстера артиллерии патент капитана гвардии. Узник, видя «столь невероятно скорое возвращение благосклонности короля», имел довольно наглости, чтобы поторговаться, в надежде вырвать место позначительнее. В конце концов ему все же пришлось удовлетвориться тем, что ему давали. Едва он дал свое согласие, как ворота тюрьмы распахнулись перед ним. Таким образом, он стал первым и единственным узником Бастилии, условием освобождения которого было личное согласие на повышение в чине. И, судя по всему, его препирательство длилось довольно долго, так как он вышел из Бастилии с огромной бородой, над которой потешался весь двор и которую он и не подумал сбрить.
Тюремное заключение нисколько не вразумило его, и впоследствии он сыграл над королем еще одну злую шутку. Унаследовав после смерти отца титул герцога де Лозена, он начал ухаживать за принцессой Монако. Но вскоре выяснилось, что король и тут перешел ему дорогу. Взбешенный Лозен вначале дал почувствовать свою ярость коварной принцессе, отдавшей предпочтение не ему, а какому-то королю. Явившись к ней в послеобеденный час, когда она отдыхала вместе с другими дамами, полулежа на ковре, расстеленном прямо на полу, он завел светский разговор, во время которого ловко наступил острым каблуком на ладонь принцессы, попрощался и, круто повернувшись, вышел. Светские приличия заставили принцессу вытерпеть экзекуцию, не издав ни звука.
Затем наступила очередь Людовика. Лозен занял позицию в нужнике напротив комнаты, где должно было состояться свидание короля с принцессой Монако. Через небольшое отверстие в двери он увидел, как король зашел в комнату, отослав лакея за принцессой; при этом снаружи в замочной скважине остался торчать ключ. Лозен вышел из своего убежища, запер короля на два оборота и с величайшим наслаждением бросил ключ в нужник. Вслед за тем он занял прежний пост и давился от смеха, слушая недоуменный разговор любовников через запертую дверь, а потом наблюдая, как сбежавшаяся прислуга освобождает сконфуженного короля. Эта проделка благополучно сошла Лозену с рук.
К несчастью для Лозена, его стремления и надежды всегда опережали его действительное положение, пусть даже самое блестящее. Вскружив голову Мадемуазель (так называли дочь герцога Орлеанского), он предложил ей выйти за него замуж и получил ее согласие; Людовик разрешил им пожениться. Этот почти королевский брак должен был принести дерзкому счастливцу огромное состояние и неслыханное влияние, но Лозену было этого мало. Он непременно желал, чтобы венчание состоялось во время королевской мессы. Герцог Орлеанский, весьма недовольный выбором дочери, воспользовался этим и сумел убедить короля, что Лозен окончательно зарвался. Людовик вторично взял назад свое слово. «Мадемуазель метала громы и молнии», – пишет Сен-Симон, но Лозен на удивление всем «с великим благоразумием, вообще-то ему не свойственным, принес эту жертву королю». В качестве утешительного приза он получил роту телохранителей-алебардщиков и был тут же произведен в генерал-лейтенанты; чуть позже, в 1670 году его назначили командующим армией во Фландрии. Но что все это значило по сравнению с расторгнутой помолвкой!
В ноябре 1671 года последовала новая опала – на этот раз по наговору его врагов, сумевших убедить Людовика в том, что Лозен использует свое влияние в армии для подготовки мятежа. После короткого пребывания в Бастилии он оказался в Пиньероле, где уже десять лет томился Фуке, и был заключен в каземат; все его должности были у него отобраны. Он провел в Пиньероле почти десять лет – с декабря 1671 по апрель 1681 года.
Лозен и здесь сумел остаться собой, превратив жизнь коменданта Пиньероля Сен-Марса в сущий ад. В 1676 году он попытался бежать: выломал оконную решетку и стал спускаться по стене, но по неловкости свалился прямо на голову часовому. Будучи огорчен неудачей, он устроил в камере пожар; на следующий день сделал попытку покончить с собой; еще через день симулировал приступ мистического безумия, а затем в течение двух недель изображал глухонемого. И при всем том он еще был вечно недоволен комендантом!
Сен-Симон передает следующий случай, рассказанный ему самим Лозеном. Однажды он опасно заболел и позвал священника для исповеди. По его словам, он так боялся, что к нему пришлют поддельного исповедника, что когда в камеру вошел капуцин, Лозен схватил его за бороду и изо всех сил стал дергать, чтобы проверить, не накладная ли она.
Тяготясь одиночеством, Лозен выломал решетки в дымоходе и однажды ночью перепугал Фуке, чья комната находилась ниже, свалившись к нему в камин. С трудом признав в неожиданном госте юношу, некогда искавшего его покровительства, бывший суперинтендант, которому в ту пору запрещали видеться и переписываться с кем бы то ни было, жадно принялся его расспрашивать о новостях. «Несчастный суперинтендант, – рассказывает Сен-Симон, – весь обратился в слух и только широко раскрыл глаза, когда этот бедный гасконец, который был счастлив, что его приняли и приютили у маршала де Грамона, повел речь о том, как он был генералом драгун, капитаном гвардии, получил патент и назначение на командование армией. Фуке был в полном замешательстве и решил, что Лозен повредился в уме и рассказывает свои видения, особенно когда тот поведал, как он не получил артиллерии и что случилось потом; услышав же, что король дал согласие на его свадьбу с Мадемуазель, о том, что стало помехой этому браку и какие богатства невеста принесла бы в приданое, Фуке совершенно уверился, что безумие собеседника достигло предела, и ему стало страшно находиться рядом с ним». Позже, когда бывшему суперинтенданту позволили писать родным, он первым делом упомянул о «безумии» бедняги Пюигильена; с каким же изумлением он прочитал в ответном письме, что все рассказанное беднягой Пюигильеном – чистая правда! Одно время Фуке, кажется, готов был поверить, что и его родные тронулись в уме.
Отношения Лозена с Фуке продолжались довольно долго и закончились смертельной ссорой. Дело было в том, что шестидесятилетний Лозен сумел соблазнить двадцатилетнюю дочь Фуке, приехавшую навестить отца; передают, что девушка проникла к нему в комнату по тому же дымоходу. Фуке пришел в ярость и нажаловался на Лозена коменданту, выдав, что старый распутник тайно получает письма и деньги. Лозен вышел из Пиньероля заклятым врагом Фуке и, как мог, вредил ему при его жизни, а когда тот умер, перенес свою ненависть на его семейство.
Своим освобождением Лозен был обязан Мадемуазель, которая ради этого уступила герцогу Мэнскому, незаконнорожденному сыну короля, ряд своих владений, – такую цену Людовик назначил за свободу ее любовника.
Выйдя из тюрьмы, Лозен уехал в Англию, где приобрел славу страстного и необыкновенно везучего игрока. Парламентская революция 1688 года, отнявшая корону у Якова II в пользу голландского штатгальтера Вильгельма Оранского, предоставила Лозену случай с триумфом вернуться во Францию. Свергнутый Яков бежал из страны, доверив ему самое дорогое – королеву и принца Уэльского, которых Лозен благополучно доставил в Кале. Благодарная королева исхлопотала для спасителя аудиенцию у Людовика. Их встреча состоялась на Сен-Жерменской равнине. Король вернул Лозену свое расположение вместе с постоянными апартаментами в Версале, Фонтенбло и Марли.
Отныне и до самой смерти Людовика XIV Лозен не покидал двора. Несмотря на значительное влияние, которым он пользовался в Версале, он сделался нелюдим и задумчив; каждую годовщину своей последней опалы он отмечал каким-нибудь сумасбродством, снискав себе славу мрачного оригинала. Их отношения с Мадемуазель длились еще несколько лет, будучи отмечены бурными ссорами, во время которых принцесса царапала его ногтями, а он, не стесняясь, поколачивал ее; однажды, чтобы вымолить прощение, он прополз на четвереньках через всю галерею. В конце концов эта странная пара рассталась.
Незадолго перед смертью он сыграл свою последнюю шутку. Серьезно заболев, он уединился в своей комнате, где спустя какое-то время с неудовольствием заметил, что его наследники чересчур навязчиво пытаются выяснить его шансы на выздоровление. Однажды он увидел в каминное зеркало, как они пробрались в комнату и спрятались за портьерами, чтобы своими глазами убедиться в состоянии его здоровья. Не подав виду, что он открыл их хитрость, Лозен притворился умирающим и принялся горячо молиться Богу, обещая во искупление своих грехов отдать все свое имущество больницам. Краем глаза он с удовлетворением наблюдал в зеркале, как наследники в отчаянии покинули свое укрытие. Чтобы нагнать на них побольше страха, Лозен немедленно послал за нотариусом, чье появление вызвало в доме настоящую панику. Лозен так развеселился, что даже поправился, и потом с удовольствием рассказывал о своей проделке знакомым.
Он умер девяноста лет от роду, проведя последние дни в монастыре Малых августинцев, где и был похоронен согласно своему желанию. Другим предсмертным распоряжением он запретил пышные похороны.
Отравители
В начале 1670-х годов в Париже разразился самый громкий скандал за все время царствования Людовика XIV. Он был связан с процессом над отравителями, взбудоражившим воображение парижан.
Эта история началась с того, что некий итальянец Экзили, занимавшийся поисками философского камня, обнаружил яд без наружных следов действия, который впоследствии был окрещен остряками «порошком наследства». Его ученик, офицер Сен-Круа, уговорил маркизу де Бренвилье, свою любовницу – молодую, живую женщину с большими выразительными глазами – попробовать этот яд на ее отце, судье д'Обре, который препятствовал их связи. Маркиза не смогла отказать милому и отправила отца на тот свет, благополучно избежав подозрений в отравительстве. Затем настал черед обоих ее братьев и невестки – уже из-за богатого наследства. Видимо, маркиза была психически ненормальной женщиной: вскоре она дала яд и своей малолетней дочери, так как заметила, что она взрослеет (так записано в чудовищном дневнике маркизы, в котором она вела учет своих жертв). Кроме того, маркиза и ее любовник клали яд в паштеты из голубей и потчевали ими своих гостей и сотрапезников – просто для развлечения.
Семидесятилетний священник Стефан Гейбург изобрел другой знаменитый яд «avium risus» («смех птиц»), от которого умирали в припадке безудержного смеха, так как у отравившегося им возникала подъязычная опухоль. Известные в Париже гадалки и прорицатели Ла Вуазен, Лесаж и Вигуре воспользовались изобретениями Экзили и Гейбурга и начали не только предсказывать наследникам смерть богатых родственников, но и способствовать ей. Их почитали за людей, имевших необыкновенные познания в тайных науках. В судебных протоколах неоднократно упоминается, что они давали яд тем, кого их просили отравить, под видом чудодейственного средства, якобы наделявшего человека даром ясновидения и узнавания мест сокрытия сокровищ. Несколько священников помогали им в этом деле, весьма своеобразно причащая богатых больных. Они продавали ядовитые снадобья и служили молебны об успехе отравления перед распятием, поставленным вверх ногами. Подпольные черные мессы служились ими едва ли не чаще, чем литургии в церквах. Тот же Гейбург показал на суде, что гофмейстер королевского двора неоднократно привозил к нему знатных женщин, желавших забеременеть, и он читал над их обнаженными животами молитвы и заклинания, вроде следующего: «Я заклинаю вас, духи, коих имена означены на сей бумаге, исполнить волю и намерение той особы, для которой я служу молебен».
За короткое время трагедии разыгрались в 500–600 богатых парижских домах. Страх парализовал Париж; отцы семейств закупали припасы и сами готовили пищу в какой-нибудь грязной пригородной харчевне, чтобы не стать жертвой предательства в собственном доме. Вскоре зараза распространилась по всей стране, всюду находили трупы людей, умерших внезапно, без всякой видимой причины. Казалось, вся Франция разделилась на отравителей и отравляемых.
Король учредил особую Огненную палату для расследования этих преступлений. Случай помог открыть истину. Сен-Круа погиб при взрыве реторты с отравленной жидкостью. Поскольку у него не было наследников, его имущество опечатали. В одном из ящиков бюро судебные исполнители обнаружили целый арсенал ядов, а в другом – письма маркизы Бренвилье, полностью изобличавшие обоих.
Маркиза была обезглавлена, Ла Вуазен и еще пятьсот человек, подозреваемых в отравительстве, исчезли в подвалах Огненной палаты. Однако для дальнейшего расследования король был вынужден создать тайную комиссию, поскольку обвиняемые называли имена таких высокопоставленных лиц, что судьи пришли в ужас. Выяснилось, что колдунью посещал брат короля герцог Орлеанский, требовавший у нее какого-нибудь средства, с помощью которого он мог бы влиять на волю короля; герцог Люксембургский, маршал Франции, заставлял Лесажа приготовлять яды и делать заклятия против короля; кроме того, он просил Сатану сделать так, чтобы его пожалование в Пиренейские герцоги считалось со дня основания Пиренейского поместья (в 1576 году); герцог Бульонский, наследник маршала Тюренна, платил колдунье пятьдесят тысяч ливров, чтобы она вызвала ему тень легендарного полководца, и готов был дать еще двадцать тысяч, если она заставит призрак указать место, где маршал зарыл свои сокровища: герцог не сомневался в правдивости этого слуха; госпожа Дре, влюбленная в герцога Ришелье, отравила всех своих соперниц. (Кстати сказать, в протоколах Огненной палаты упоминается и имя Расина в связи с таинственной смертью его любовницы дю Парк.)
Наверное, далеко не все, о чем говорится в судебных протоколах, заслуживает безусловного доверия: допросы велись с применением пытки и, конечно, доля напраслины в показаниях обвиняемых должна быть весьма велика.
В этом отношении характерно дело Марии Анны Манчини, герцогини Бульонской (племянницы Мазарини), обвиненной в том, что она просила Лесажа отравить ее мужа для того, чтобы выйти замуж за герцога Вандома. Из показаний самой герцогини видно, что вся ее вина состояла в любопытстве и, быть может, в излишней доверчивости к прославленному шарлатану. Этот «колдун» и «маг», в качестве доказательства своего искусства, обещал герцогине и Вандому у них на глазах сжечь записку с несколькими вопросами, а затем доставить ее в целости и сохранности в любое место, какое они укажут, и ответить на записанные вопросы. Вандом записал на куске бумаги два вопроса: где сейчас находится герцог Наваррский и умер ли в действительности герцог Бофор – и запечатал ее своим перстнем. Лесаж связал ниткой свернутую в трубку бумагу, вложил ее в конверт, который Вандом лично сжег. После этого Лесаж уверил герцогиню, что она найдет записку у себя дома, в одной из фарфоровых ваз. Герцогиня поспешила домой, но, разумеется, ничего не обнаружила.
Однако через несколько дней Лесаж принес ей записку – ту же самую или очень похожую, – что немало удивило герцогиню. Вандом потребовал повторения фокуса, причем с условием, чтобы Лесаж возродил сожженную записку немедленно. От этого условия шарлатан отказался, заявив, что они получат записку по прошествии некоторого времени. Проделав все манипуляции, как в первый раз, он простился с сановными любовниками. Герцогиня неоднократно посылала к нему слуг, даже ходила сама и требовала предъявить записку, но он отговаривался под разными предлогами. Наконец через четыре дня Лесаж сам появился в доме герцогини и с печальной торжественностью объявил, что, к сожалению, из-за непредвиденных препятствий сивиллы не могут скоро сообщить ему ответа на вопросы записки. Слова шарлатана показались герцогине настолько смешными, что она рассказала об этом случае многим своим знакомым и даже написала о нем мужу, который тогда находился в армии.
Судьи, у которых чувства юмора оказалось меньше, чем у герцогини Бульонской, объяснили провал второго фокуса тем, что во второй записке она якобы спрашивала о времени смерти мужа, а Лесаж не захотел отвечать на этот щекотливый вопрос. Решения суда по ее делу не сохранилось.
Впрочем, все титулованные преступники и подозреваемые покинули Огненную палату с гордо поднятой головой: самым строгим наказанием для них стал запрет подъезжать к Парижу ближе чем на двадцать часов езды. (Правда, король тяжело переживал, что зараза поразила его ближайшее окружение; он долго еще повторял со слезами: «Я боюсь, что мне придется ответить перед Богом и перед моим народом за оказанное мною снисхождение».) Ла Вуазен увлекла за собой на хвосте ведьмовского помела одну графиню де Суассон, бывшую любовницу Людовика XIV. Колдунья показала, что графиня около тридцати раз приходила к ней и требовала приготовить любовный напиток, который позволил бы ей возвратить симпатии его величества. Не довольствуясь этим, она носила к ведьме волосы, ногти, чулки, рубашки, галстуки короля для изготовления любовной куклы, с тем чтобы произнести над ней заклятия. Графиня принесла даже капли крови Людовика XIV, подкупив за огромную сумму королевского лекаря. Замаранная показаниями отравительницы, графиня поспешно бежала и остаток своей жизни провела, странствуя по Европе, точнее, изгоняемая из одного города в другой.
Зато из пятисот арестованных горожан к ответственности были привлечены сто тринадцать человек. Им вменялись в вину отравительство, убийства, сношения с дьяволом, порча, участие в черных мессах и т. д.
Экзили бесследно исчез за стенами Бастилии еще до того, как Сен-Круа и маркиза Бренвилье опробовали на практике его изобретение. Однако страх перед итальянцами долго не проходил. Через несколько лет после описанных событий был арестован один итальянский химик по подозрению в изготовлении ядов, а в 1682 году в Бастилию был заключен другой его соотечественник – за то, что он, как сказано в тюремных документах, «дал очень плохие объяснения, почему он пребывает во Франции». Побывали здесь также четыре дворянина из Сицилии – семья Троватти: отец, двое его сыновей и их дядя. При аресте у них нашли какие-то порошки, травы, магические знаки и т. п.
Много позже, в 1704 году, когда эпидемия отравительства уже давно прошла, в Бастилию вновь попала женщина, подозреваемая в этом преступлении. Впрочем, ее скоро отпустили: оказалось, что она продавала нетерпеливым наследникам под видом яда толченый кирпич, смешанный с солью.
Из школы – в Бастилию
В Париже, на улице Святого Иакова, находилась иезуитская школа – Клермонтская коллегия. В 1674 году, по случаю очередной победы в войне с Голландией, ее профессора написали трагедию, которую должны были разыграть на сцене ученики, и пригласили Людовика XIV на премьеру. Король ответил согласием.
Во дворе коллегии королевскую карету встретили декорации и транспаранты, изображавшие различные народы, склонившиеся перед Людовиком; латинские двустишия под ними на все лады восхваляли могущество, славу и набожность его христианнейшего величества. Сама трагедия была полна высокопарной чуши в адрес Людовика и ругательств над его врагами. Авторы дошли до того, что нарочно допустили некоторые неточности в стихах, чтобы дать королю случай поправить эти места и тем самым показать свой тонкий вкус.
Людовик остался доволен вечером: ему понравился и сюжет трагедии, льстивший его тщеславию, и волнение актеров, смущенных присутствием «короля-Солнца», и подобострастное внимание святых отцов, которые аплодировали при малейшем знаке одобрения с его стороны…
Король сделал ректору несколько замечаний, касающихся стиля трагедии и ее постановки, и тот, несмотря на благосклонную улыбку августейшего критика, побранил потупившихся сочинителей и актеров. Уезжая, Людовик бросил последний взгляд на декорации во дворе и поблагодарил ректора за приятный вечер. При этом один придворный стал довольно громко восхищаться за спиной короля достоинствами профессоров и учеников. Людовик оборвал его на полуслове.
– Что ж здесь удивительного? – сказал он, садясь в карету. – Ведь это моя коллегия.
Эти слова подали ректору мысль изменить название школы. До сих пор на фасаде здания висела деревянная доска с латинской надписью «Collegium Claromontanum» и изображением креста. За одну ночь вместо этой доски изготовили и повесили плиту из черного мрамора, на которой золотыми буквами было высечено: «Collegium Ludovici Magni» («Коллегия Людовика Великого»); крест был заменен лилиями.
Наутро в коллегии только и было разговоров, что о вчерашнем посещении короля и перемене названия школы. Среди учеников коллегии был некто Франсуа Сельдон, шестнадцатилетний юноша из богатой ирландской семьи. Его родители, по обычаю того времени, отправили юношу в Париж, чтобы он научился там всему, что подобало знать дворянину. Но он не мог привыкнуть к жесткой дисциплине иезуитского училища и всячески увиливал от занятий. Вчера Сельдон не присутствовал на празднике, поэтому утром он с изумлением уставился на черную мраморную плиту у входа в коллегию и бросился расспрашивать своих товарищей. Разузнав обо всем, он решил посмеяться над верноподданническим рвением святых отцов. После занятий он подозвал фонарщика, что-то прошептал ему на ухо, сунул в руку экю и передал лист бумаги…
На другой день ученики увидели на дверях коллегии латинское двустишие:
Нечестивое племя! Иисусу предпочитаете вы лилии,
Вместо Бога поклоняетесь вы королю.
Эпиграмма произвела страшную суматоху. Сначала ее заметили одни ученики и радостно подхватили. Затем о ней узнали профессора и приказали тотчас снять ее, но было поздно – к вечеру стихи декламировал весь город.
Ректор срочно созвал совещание. Скандальный листок ходил по рукам профессоров, вызывая множество толков и предположений: одни обвиняли в случившемся бенедиктинцев, другие грешили на янсенистов… Наконец один профессор узнал почерк Сельдона.
Из расспросов учеников и фонарщика, который во всем сознался, были получены бесспорные доказательства его вины. Совет коллегии решил всем составом отправиться в Версаль, чтобы поблагодарить короля за полученное к тому времени позволение сохранить новое название коллегии и попросить о заключении виновного в Бастилию.
Выслушав иезуитов, Людовик нахмурил брови и тотчас же выдал бланк на арест шутника, добавив, что подобная дерзкая выходка заслуживает самого сурового наказания.
На следующий день Франсуа Сельдон не явился в коллегию: его арестовали той же ночью. Юношу связали, точно какого-нибудь убийцу, бросили в карету и отвезли в Бастилию.
На несчастного Сельдона напал страх, когда он увидел, что все встречавшиеся на пути солдаты и тюремщики закрывали лицо или отворачивались при его приближении, – он не знал, что таковы были обычные меры предосторожности, предписанные уставом Бастилии. Затем страх сменился удивлением при виде того, как офицеры на глазах у Сельдона поделили между собой отобранные у него часы, деньги и другие вещи.
Его поместили на третий этаж одной из башен, в просторную пустую комнату, куда свет едва проникал через маленькое окно без стекол и с толстой решеткой. В потемках с трудом можно было рассмотреть несколько предметов, составлявших ее меблировку, – сломанную кровать, стул без спинки и стол, изъеденный червями; разорванный матрас издавал невыносимое зловоние.
Мало-помалу его глаза привыкли к темноте, и Сельдон различил надписи на стенах, сделанные на многих языках. Одна из них гласила: «Вот уже двадцать лет сижу я в этой комнате, двадцать лет я спрашиваю у людей, что я им сделал, и у Бога – зачем Он оставляет меня жить и страдать».
Прочитав эти слова, Сельдон, все еще надеявшийся, что его скоро выпустят, похолодел от ужаса. Он пытался вступить в разговор с тюремщиком, приносившим ему еду, но тот безучастно молчал. Потянулись долгие месяцы одиночного заключения. Ему не разрешали ни писать, ни с кем-либо видеться.
Из Бастилии Сельдона переправили на острова Святой Маргариты, где он провел семнадцать лет. В 1691 году он снова оказался в Бастилии, откуда вышел только в 1705 году, таким образом пробыв в заключении тридцать один год за два стиха, которые едва ли заслуживали даже порки.
Вероятно, он так бы и умер в тюрьме, если бы в дело вновь не вмешались иезуиты. Его духовник, отец Рикеле, узнал, что после смерти родителей Сельдон оказался единственным наследником огромного состояния. Рикеле немедленно воспользовался этим, чтобы заставить Сельдона купить свою свободу. Он составил и дал ему подписать следующий документ:
«Все мое имущество, движимое и недвижимое, я обязуюсь передать отцу Рикеле или тем членам иезуитского ордена, которых он пожелает выбрать. Следуя моим личным интересам, я оставляю себе доход в два процента со стоимости всего имущества, который после моей смерти также перейдет в руки святого иезуитского общества, моего единственного наследника. Такое завещание я делаю в благодарность за услуги, оказанные мне преподобными отцами во время моего долгого заключения.
Составлено в Бастилии, 15 ноября 1705 года».
Иезуит и не думал выполнять свое обещание, но на этот раз ученик перехитрил учителей. Перечитав завещание, Рикеле с досадой обнаружил в нем приписку, сделанную Сельдоном после слов «которых он пожелает выбрать»: «когда я освобожусь из Бастилии». Делать было нечего. Иезуиты стали так же ревностно хлопотать о спасении Сельдона, как тридцать лет назад хлопотали о его гибели. Скоро они получили соответствующий приказ от стареющего Людовика XIV, находившегося всецело под их влиянием.
Сельдон с волнением ожидал своего освобождения. Когда за ним явились, чтобы отвести его к коменданту, он упал в обморок и был отнесен к Сен-Марсу на руках. Комендант заставил его написать под диктовку еще одну бумагу – на этот раз королю:
«Сир!
По бесконечному милосердию Вашего Величества, Вы соблаговолили простить мне все мои преступления против Вас. Эти преступления я сознаю, ненавижу и от всего сердца прошу за них прощения у Вашего Величества. Я всегда буду самым покорным, самым преданным и самым благодарным из Ваших подданных. Я находился в заблуждении, когда оскорбил Вас – образец государя. Примите, Ваше Величество, всепокорнейшую благодарность от Вашего кающегося подданного, и пусть меня постигнет кара как в этой жизни, так и в будущей, если я когда-либо забуду милосердие Вашего Величества, избавившего меня от суда и пыток, которых я заслужил».
Затем комендант сказал:
– Сделайте приписку: «Во время моего пребывания в Бастилии все служащие в этой тюрьме, сторожа и офицеры, обращались со мной кротко и вежливо. Я считаю долгом засвидетельствовать, что они оказывали мне все услуги, которые были возможны в моем положении».
Здесь Сельдон, вспомнив голод, холод, бряцание ключей и цепей, все притеснения, которые он испытал в течение тридцати лет, заколебался, но Рикеле настоял, что сделать это совершенно необходимо.
Сельдон дрожащей рукой, отвыкшей от пера, нацарапал требуемую приписку. После этого с него взяли клятву что он забудет все виденное, слышанное и испытанное им в Бастилии и никому, ни при каких обстоятельствах не откроет ничего, что касается внутренних порядков этого королевского замка.
– Теперь вы свободны, – произнес комендант.
Через полчаса Сельдон, чисто выбритый и одетый в приличное платье, выданное ему Рикеле за 50 экю в счет его будущих доходов, перешел подъемный мост Бастилии.
Иезуиты, получившие от этой сделки сто тысяч ливров годового дохода, продолжали его опекать и после освобождения. Сельдон прожил еще долго, но до конца дней его преследовали воспоминания о Бастилии – воспоминания, которыми он ни с кем не смел поделиться.
Новые гонения гугенотов
До 1685 года Людовик XIV открыто не нарушал Нантский эдикт Генриха IV о свободе вероисповедания для гугенотов. Правда, королевские драгуны хозяйничали в протестантских селениях, куда их определяли на постой, и, под предлогом подавления бунта против короля часто десятками истребляли протестантов, но те все же еще могли публично исповедовать свое вероучение.
Однако драгонады , сопровождавшиеся страшным кровопролитием в Руане, Нанте, Марселе и Бордо, не удовлетворили иезуитов, и они побудили Людовика XIV издать постановление, по которому больные протестанты, отказывавшиеся от предсмертного причащения по католическому обряду, предавались суду в случае выздоровления. Мужчины приговаривались к публичному покаянию и ссылке на галеры, женщины – к покаянию и пожизненному заключению. Умершие без причастия не избегали возмездия: имения их конфисковывали, а трупы бросали в поле на съедение хищным животным и птицам.
Под влиянием своего духовника иезуита Летелье и последней фаворитки – госпожи де Ментенон – Людовик XIV 25 октября 1685 года отменил Нантский эдикт. Этот указ самым пагубным образом отразился на положении страны. Гонимые протестанты десятками тысяч бежали за границу. Король запретил им покидать Францию без особого письменного разрешения, но, несмотря на этот запрет, около полумиллиона протестантов уехали из Франции, в результате чего многие провинции превратились в пустыню, торговля и промышленность заглохли, приток налогов в казну сократился, страна лишилась состоятельных людей и умелых, квалифицированных работников.
Внутренняя политика Людовика XIV принесла Франции не меньше бед, чем внешняя. «Государство выигрывает от того, что теряет таких дурных подданных», – написал король на полях доклада одного французского дипломата, указывавшего на государственные невыгоды религиозной нетерпимости. На деле оно проиграло, что было очевидно многим уже тогда. Например, маршал Вобан в письме военному министру Лувуа жаловался, что Францию оставили 100 тысяч французов, способных носить оружие, из них 9 тысяч матросов, «самых лучших в королевстве», 600 офицеров и 12 тысяч солдат; эмигранты увезли с собой не менее 60 миллионов ливров. После этого стоит ли удивляться сокрушительному поражению Франции в войне за испанское наследство (1701 – 1714), которое увенчало разорительное царствование Людовика XIV?
Бастилия в эти годы вторично, после эпохи отравительства, переполнилась заключенными. На этот раз ими в основном были протестанты, которых тюремная администрация во что бы то ни стало хотела обратить в католичество. Если увещевания не помогали, то комендант прибегал к угрозам и пыткам, от которых не были избавлены даже женщины и дети. Такого количества заключенных, столько горя и страданий стены Бастилии не видели ни до, ни после этих страшных лет.
Множество подробностей о содержании заключенных в Бастилии в эту эпоху оставил в своих записках Константин Ренвиль. Он был младшим ребенком в многодетной семье; одиннадцать его братьев погибли в войнах, которые вел Людовик XIV. Самому Ренвилю министр Шамиляр дал поручение к одному иностранному двору; Ренвиль в точности исполнил инструкции и спокойно возвратился во Францию, где был обвинен в государственной измене. Он просидел в Бастилии одиннадцать лет, все его письма с просьбой о помиловании даже не отправляли адресатам. Однажды, в первые годы его заключения, за какое-то нарушение дисциплины его поместили в подземный каземат, настолько грязный, что ноги Ренвиля утопали в вонючей жиже, в которой барахтались крысы и жабы, пожиравшие предназначенную ему пищу – хлеб и воду.
Ренвиль пересидел чуть ли не во всех камерах Бастилии и насчитал в них 250 заключенных, то есть по пять– семь человек в каждой камере.
Бастильское начальство в угоду Людовику XIV стремилось обратить арестованных протестантов в католичество. Однако обращение в «истинную веру» вовсе не означало обретение свободы. Гуарлен, советник из Беарна, внявший совету иезуита Рикеле и отрекшийся от своей веры, продолжал оставаться в заключении: он был доведен до того, что должен был прикрывать свое тело старым одеялом вместо одежды. Некий Ла Маса просидел двадцать два года после того, как перешел в католичество, Суара – десять лет.
Очень характерна в этом отношении история одного швейцарца из Невшателя, по имени Перро. Он был арестован за то, что осмелился вступиться за преследуемых соотечественников-протестантов.
Обыкновенно миссионерскую работу в тюрьме выполняли добровольцы из заключенных-католиков, которые надеялись таким способом получить свободу.
На Перро направил свои миссионерские старания некто Ле Шевалье, тупой и неотесанный грубиян огромного роста. Он начал с обещаний, затем прибегнул к религиозным дискуссиям и под конец набросился на непреклонного Перро с ругательствами. Злоба Ле Шевалье была так велика, что другие заключенные, свидетели их споров, просили бастильское начальство развести противников в разные комнаты, но Сен-Марс не обратил на их слова никакого внимания, радуясь случаю досадить гугеноту.
Вскоре Ле Шевалье затеял драку и сильно избил Перро. Измученный швейцарец стал умолять офицеров избавить его от миссионера, но те только смеялись в ответ.
Вскоре после этого Перро, защищаясь от очередного нападения Ле Шевалье, раскроил ему стулом череп.
Приговоренный к виселице, несчастный гугенот не имел ни минуты покоя от иезуитов, которые убеждали его хотя бы перед смертью спасти душу.
Господь был милостив к нему: Перро умер, читая молитву. Палач повесил уже мертвое тело.
Рассказать о каждом заключенном, находившемся в те годы в Бастилии, конечно, невозможно. Но вот еще несколько необычных судеб, сохранившихся в тюремных протоколах.
В 1691 году, перед отъездом короля на осаду Монса, полиция узнала, что два купца, Дике и Гюи, вместе с двенадцатью родственниками, известными за «смелых людей, которым ничего доброго не доверяли», собираются отправиться туда же. Это показалось подозрительным, и начальник полиции поручил одному из своих агентов следить за путешественниками и арестовать их, если выяснится, что они и в самом деле направляются во Фландрию.
5 апреля Дике и Гюи, верхом, одетые рейтарами, с пистолетами в карманах, добрались до большой Буржской дороги. Здесь к ним присоединился какой-то рейтар, который сказал, что также едет в Монс. В Лувре, где они обедали, их спутник, оказавшийся тем самым полицейским агентом, приказал их арестовать.
На допросе купцы заявили, что ехали в Риссель, куда они заранее отправили свои товары; они твердо стояли на том, что никогда не намеревались ехать в Монс. Единственное, что могли выудить из них следователи, – это признание того, что они хотя и отреклись от протестантства по приказу короля, но втайне исповедовали свою прежнюю религию.
На основании предполагаемого направления их поездки и того факта, что они были вооружены карманными пистолетами, следствие сделало вывод, что купцы намеревались совершить покушение на жизнь короля. Дике и Гюи бросили в Бастилию, откуда перевели в Гвидскую тюрьму, где они находились еще в 1695 году; там, вероятно, они и умерли.
Супругам Лафонтен, посаженным в Бастилию, было объявлено, что их заключение продлится до тех пор, пока во Францию не вернется их сын, бежавший в Швейцарию от наставника-иезуита, к которому он был отдан на воспитание. Они клятвенно подтвердили, что не принимали никакого участия в побеге сына, и добавили, что скорее умрут в тюрьме, чем попросят его вернуться назад. Они открыто исповедовали кальвинистское вероучение и один раз уже побывали из-за этого в Бастилии. Новое заключение они перенесли с твердостью, которая сделала их знаменитыми среди парижских гугенотов.
Елизар Кутансе в 1693 году прибил на воротах церкви памфлет на преследование своих единоверцев. В Бастилии, где он пытался разбить себе голову о стену, к нему были приставлены два стража, находившиеся при нем безотлучно. Кажется, Кутансе был психически нездоров; тем не менее он мужественно вытерпел все издевательства и даже пытки. Однажды он попросил передать, что хочет увидеться со следователями. Приведенный к ним, он некоторое время делал вид, что пытается что-то вспомнить, кривлялся, подмигивал и наконец попросил разрешения помолиться. Когда стражники его отпустили, он встал на колени и громко призвал божественное проклятие на голову католиков.
– Знайте же, что я всю мою жизнь буду делать то же самое! – воскликнул он в исступлении.
Больше от него ничего не смогли добиться.
Но, может быть, наиболее поразительной является судьба Исаака Арме Даву-Асетта, проведшего в Бастилии пятьдесят четыре года шесть месяцев и двадцать дней. Он происходил из протестантской фамилии и состоял кадетом в роте под началом своего брата.
В 1695 году его обвинили в соучастии в убийстве одного судьи, совершенном двумя его племянниками, но, кажется, главная его вина состояла в том, что он был гугенот. Посаженный в Бастилию, Даву-Асетт провел в ней в качестве узника сорок лет и был отпущен из нее в возрасте 73 лет. Однако он попросил у Людовика XV милостивого позволения по-прежнему жить в Бастилии. Король разрешил ему это, и Даву-Асетт со слезами радости снова увидел тюремные стены, решетки, замки, которые были его домом, и тюремщиков и заключенных, которые были его семьей. Двенадцать последних лет ему не позволяли долго жить в одной и той же комнате, так как он немедленно устраивал в ней склад дров, свечей й всякой ветоши. Боясь, как бы полоумный старик не устроил пожара, комендант Бастилии выхлопотал разрешение о его переводе в Шарантон. Это случилось в 1749 году, когда Даву-Асетту исполнилось 90 лет. В это время он был уже слабоумен, как младенец. Родственники изредка справлялись о нем, устав дожидаться того часа, когда они из опекунов его имущества превратятся в полноправных владельцев.
Одновременно с протестантами в Бастилии находились заключенные, содержавшиеся там по другим делам. Так, например, Дюбуа, бывший аптекарь, был переведен в Бастилию из тюрьмы Сен-Лазар в наказание за какие-то бесчинства. Этот неисправимый циник сам говорил, что посажен в тюрьму для исправления, но только развращает других заключенных. Король не счел нужным назначить ему содержание, и Дюбуа очутился на полном иждивении своих товарищей по камере. Уничтожая их порции и выпивая их вино, он расплачивался остротами и непристойными анекдотами. Выйдя из Бастилии, он принял духовное звание, был сделан аббатом и благодаря своей ловкости получил место духовника и воспитателя герцога Орлеанского, впоследствии регента Франции. Во времена регентства Дюбуа достиг должности первого министра и сделал все, чтобы развратить двор и своего духовного сына. Конечно, узники, делившиеся с ним пищей, не могли предвидеть, что этот голодный аптекарь сам будет посылать в Бастилию арестантов.
Патриарх Аведик
В 1690-х годах французским посланником в Константинополе был назначен маркиз де Ферриоль. Этот бедный дворянин из Дофине сделал карьеру не сразу. Когда-то он был вынужден покинуть Францию из-за скандальной любовной истории и отправился в Польшу; там он крупно проигрался и завербовался во французский экспедиционный корпус герцога Бофора, имевший целью освободить Кандию от турок. После провала экспедиции Ферриоль нанялся на службу к султану и участвовал в венгерском походе турецкой армии.
В Венгрии Ферриоль принялся по собственному почину писать депеши в Версаль о положении дел в этой части Европы. Его родственники, оставшиеся в Париже, сумели заинтересовать ими самого короля, и Ферриоль стал дипломатом. Местом посланника в Константинополе он был обязан клевете, распространенной им насчет своего предшественника аббата де Шатонефа, – Ферриоль обвинил его в тайной склонности к мусульманству.
Прибыв в Константинополь, Ферриоль оказался втянут в религиозный конфликт между католиками и армянами-грегорианцами.
Предыстория этого конфликта такова. В 1622 году папа Григорий XV основал «конгрегацию для распространения веры». Его преемник Урбан VIII присоединил к ней «коллегию пропаганды», где воспитывались будущие миссионеры-иезуиты. Представители Святого Престола вели себя в Турции весьма агрессивно. Особое внимание они уделяли общине армян-грегорианцев, всеми силами пытаясь окатоличить их. Пользуясь тем, что вероучение армянских христиан в основных пунктах совпадало с католическими догматами, иезуиты проповедовали в грегорианских храмах и привлекали к себе многих армян. Однако новообращенным запрещалось посещать грегорианские храмы и общаться с бывшими единоверцами.
Армянские иерархи считали действия иезуитов непозволительными и жаловались на их неуместное рвение Дивану – турецкому правительству. Турки в мирное время относились к христианам с большой терпимостью (Коран утверждает, что «тот, кто сказал: нет Бога, кроме единого Бога, войдет в рай»; кроме того, там записано, что «число избранных назначено на всю вечность», что делает миссионерскую деятельность христиан бессмысленной и безвредной для правоверных). Не считая уместным поддерживать одних неверных против других, турецкое правительство долгое время не вмешивалось в эти раздоры, предоставив той и другой стороне полную свободу действий.
Ферриоль вначале способствовал примирению грегорианцев и католиков. В 1701 году он пытался стать посредником в заключении договора между ними – нечто вроде унии обеих церквей. Но против унии восстал армянский патриарх Аведик, и это толкнуло Ферриоля в объятия партии насилия.
Аведик родился в Эрзеруме, в бедной семье. В юности он был принят в число вертабидов – богословов, призванных хранить в чистоте доктрины Армянской церкви. Сделавшись епископом, а затем и архиепископом, Аведик продолжал защищать интересы единоверцев с твердостью, которую французский посланник называл «дерзостью».
Ферриоль попытался добиться от великого визиря отрешения Аведика от управления делами Армянской церкви. Но великий муфтий, духовный глава турецких мусульман, являвшийся хорошим знакомым Аведика, воспротивился этой интриге и даже назначил армянского иерарха «армянским патриархом Константинопольским и Иерусалимским». Поскольку решения муфтия имели силу закона, Ферриолю пришлось временно оставить свои планы.
Положение изменилось в 1703 году, когда в Константинополе вспыхнуло большое восстание. Янычары свергли султана Мустафу II и возвели на престол его брата, Ахмета III; великий муфтий был зарезан во время уличных беспорядков. Через два месяца после этих событий Аведик был отрешен от должности патриарха и заключен в Семибашенный замок; затем, по настоянию Ферриоля, его сослали в Сирию.
Ферриоль употреблял все свое влияние, чтобы сделать заключение свергнутого патриарха несносным. Он требовал посадить Аведика «в тюрьму, наполненную водой»; правительство Людовика XIV не отмежевалось от действий своего посла.
Армянская община отказалась повиноваться новому патриарху и хлопотала о возвращении Аведика. В конце концов они подкупили великого визиря за огромную сумму в 400 кошельков (примерно 800 тысяч тогдашних франков), и после года злоключений Аведик вновь воссел на патриарший престол. «Он соединился с греками, – доносил Ферриоль в Версаль, – и я предвижу страшные преследования против католиков». У патриарха действительно не было никаких причин симпатизировать Римской церкви, но притворная тревога Ферриоля должна была оправдать его собственную злобу против Аведика. «Я не дам ему ни минуты покоя, зная его за человека очень злого и способного на сильное притворство», – писал французский посол.
Спустя год Ферриоль с удовлетворением сообщил Людовику XIV, что Аведик вторично отрешен от патриаршества и осужден на ссылку. Тогда-то, чтобы сделать его падение окончательным, этот представитель самой цивилизованной нации Европы и пошел на преступление, которое даже в то время считалось уже совершенно немыслимым.
Ферриоль подкупил чауша – чиновника, который должен был сопровождать Аведика в изгнание, и отправил инструкцию французскому вице-консулу на Хиосе, где корабль с патриархом должен был остановиться на несколько часов, доставить пленника в Марсель.
20 апреля 1706 года Аведик отправился в ссылку, вернуться из которой ему было не суждено. На Хиосе чауш передал его в руки иезуитов; специально нанятое купеческое судно, принадлежавшее капитану-французу, доставило патриарха в Марсель. По приказу короля за ним прибыл офицер, имевший на руках распоряжение, предписывавшее «всем губернаторам, мэрам, синдикам и другим чиновникам» оказывать ему «всевозможную помощь и в случае необходимости содействовать вооруженной силой». Таким образом, Людовик XIV с самого начала сделался соучастником этого вопиющего беззакония.
Аведика поместили в аббатстве Сен-Мишель – на голой скале у побережья Нормандии. Приору было приказано строго наблюдать за узником, «не позволяя ему сообщаться с кем бы то ни было ни устно, ни письменно». Впрочем, подобные строгости были совершенно излишни в отношении пленника, который не понимал ни слова по-французски. Монахам он был представлен страшным гонителем католиков.
Десять месяцев Аведик провел в полном одиночестве. Лишь 1 июля 1707 года его допустили в церковь и позволили исповедаться, для чего пригласили монаха, знавшего восточные языки. Первыми словами Аведика были:
– Пусть меня судят и приговорят к наказанию, если я этого заслуживаю. Если же я невиновен, то пусть объявят об этом и освободят меня!
Его протест был записан и послан в Версаль, где он и пропал.
Между тем в Константинополе Диван и великий визирь обратились к Ферриолю за разъяснениями, куда делся армянский патриарх. Ферриоль отвечал, что, вероятно, судно, перевозившее его, захвачено английскими или голландскими корсарами. Турецкое правительство вступило в переговоры с последними, но те, разумеется, полностью отрицали свою причастность к этому делу. Тогда визирь распорядился подвергнуть пытке чауша, сопровождавшего Аведика, и тот, не вынеся мучений, во всем признался. После этого визирь сразу официально потребовал у Ферриоля возвращения Аведика как подданного султана. Посол без тени смущения заявил, что показания чауша не имеют никакого веса. Визирь пригрозил в случае отказа удовлетворить требование его правительства умертвить всех армян-католиков, на что верный сын Католической Церкви спокойно ответил: «Если Аведик во Франции, я напишу, чтобы его выслали сюда. Султан же волен делать что угодно со своими подданными. Он может приказать умертвить всех армян, но эта угроза не заставит меня признаться в том, чего я не знаю».
Раздраженный визирь приказал арестовать всех армянских иерархов-католиков, из которых девять человек купили себе жизнь ценой отступничества, а трое приняли мученическую смерть. Многих армян пытали, спрашивая об участи Аведика; иезуитам запретили миссионерскую деятельность и сожгли их типографию; двух армянских иерархов-грегориан, разрешивших католикам проповедовать в своих церквах, сослали на каторгу. Султан своим указом вновь призвал Аведика на патриарший престол, а исполнение его обязанностей временно возложил на его наместника Иоганнеса, который повел дело так, что вскоре все армяне-католики были вынуждены бежать из Турции или скрываться. Таковы были результаты миссионерской деятельности Ферриоля и иезуитов.
Каждый вечер в армянских храмах читались молитвы о возвращении Аведика. Одно время казалось, что эти просьбы были услышаны: в Константинополе распространилась весть, что патриарх объявился на острове Родос. На самом деле это был самозванец, использующий имя Аведика в целях обогащения. Он был посажен в константинопольскую тюрьму, откуда сбежал, подкупив стражу. Во множестве появились обманщики, утверждавшие, что видели Аведика в Голландии, на острове Мальта и в других местах; получив плату за эти сведения, они быстро скрывались.
Людовик XIV утаил даже от Ферриоля дальнейшие перемещения Аведика после его прибытия в Марсель. Посол писал министру иностранных дел: «Если Аведик в инквизиционной тюрьме (в Испании. – С.Ц. ), он никогда не выйдет из нее. Если он во Франции, умоляю Вас приказать посадить его в темную, чтобы он никогда не видел света».
Из Рима к Людовику XIV также поступали самые настойчивые требования «о еще большем притеснении узника». Французское правительство успокаивало Святой Престол: «Возобновлены приказания удвоить внимание и бдительность. Его видит лишь сторож, подающий ему пищу. Он объясняется только знаками, а когда по праздникам и по воскресеньям слушает обедню, его помещают отдельно»; «Мы узнали, что слуга патриарха отправляется из Ливорно во Францию, чтобы узнать о судьбе своего господина. Но как только он появится, его схватят и заключат в крепкую темницу».
В письмах же к султану король двоедушничал, рассказывая о своих распоряжениях «разыскивать патриарха в Испании и Италии, чтобы возвратить его законному государю».
Похищенный патриарх все еще казался таким опасным, что было принято решение перевести его в Бастилию. «18 декабря 1709 года, – записано в журнале Дюжонка, – поступил весьма важный арестант, имени которого не сказывают». Это был Аведик, в отношении которого по-прежнему строжайше воспрещалось «малейшее сообщение нового узника с кем бы то ни было».
Наконец в окружении короля возник план, выполнение которого должно было окончательно обезвредить патриарха: его задумали обратить в католичество. В камеру Аведика доставили богословские книги на армянском языке, по которым он мог ознакомиться с доктринами Католической Церкви и убедиться в несущественности обрядовых отличий грегорианцев от католиков.
Невыносимое одиночество и непреодолимое желание хотя бы перед смертью вдохнуть воздух свободы сломили волю престарелого патриарха. 22 сентября 1710 года в присутствии кардинала Ноайля, архиепископа Парижского, он отрекся от веры отцов. Через несколько дней его рукоположили в священники в соборе Парижской Богоматери.
В течение последующих девяти месяцев парижане каждое утро видели, как из небольшого домика на улице Феру выходил сгорбленный старик с потухшим взором, опиравшийся на палку. Едва держась на ногах, он доходил до церкви Св. Сульпиция, где числился священником, и служил обедню. Только кое-какие детали армянского национального костюма, сохранившиеся в его одеянии, позволяли догадаться, что это и есть Аведик, бывший патриарх Константинопольский и Иерусалимский.
21 июля 1711 года Аведик скончался, напутствуемый священником той самой Римско-Католической Церкви, которая причинила ему столько бед.
Доведя лицемерие до предела, Людовик XIV распорядился составить меморандум, в котором была засвидетельствована скорбь короля по поводу смерти Аведика, и готовность, с какой его величество поспешил возвратить свободу узнику, как только тот «смог объявить о своем звании», ибо его величество «никогда не одобрял насилия». Этот документ был заготовлен на случай вмешательства Турции. Но надобность в нем не возникла. Великие визири менялись в Константинополе настолько часто, что к этому времени турецкое правительство совсем позабыло о существовании Аведика.
В дни, когда бывший патриарх умирал на чужбине, в Париж привезли одного сумасшедшего дипломата. Это был Ферриоль. Незадолго перед тем, как сойти с ума, он написал: «Я знаю одно, за что меня могут упрекать, – это похищение Аведика».
Янсенисты – последователи епископа Ипрского Корнелия Янсена (ум. в 1638 г.). Учение Янсена о внутреннем, личном христианстве, направленное против главенства внешних обрядов в религиозной жизни, распространилось в основном среди образованных слоев французского общества. Сами янсенисты именовали себя «учениками святого Августина», чтобы подчеркнуть, что они остаются верными чадами Католической Церкви и избирают «средний путь» между кальвинизмом и пелагианством. При Людовике XIV янсенисты подверглись гонениям.
Указ Генриха IV, даровавший гугенотам свободу вероисповедания во Франции. Отменен Людовиком XIV в 1685 году, в результате чего около 500 тысяч гугенотов эмигрировали из Франции в Англию, Голландию, Швецию и другие протестантские страны.
Генеральный прокурор Парижского парламента имел весьма широкие функции и полномочия. В частности, в его обязанности входило курировать королевский домен, охранять права малолетних и галликанской Церкви. С XVI века эта должность покупалась и продавалась. В 1790 году должность генерального прокурора была уничтожена, но ее вновь восстановили в эпоху Первой империи.
«Двойные решетки с большими гвоздями, тройные двери с крепкими засовами, вы кажетесь адом одним преступникам; но для невинных людей вы только дерево, камень и железо».
Так назывались бесчинства, творимые драгунами в протестантских деревнях и городах и сопоставимые с действиями опричников при Иване Грозном.
Железная Маска
Тайна узника, известного под именем Железной Маски, волновала людей не одно столетие.
Достоверных сведений об этом самом необычном узнике Бастилии сохранилось очень немного. Известно, что в начале 1679 года в тюрьме Пиньероль содержался заключенный, с которого никогда не снимали черную бархатную маску (впоследствии превращенную легендой в железную) венецианского образца, с железными застежками. Почтительное обращение с ним заставляло думать, что узник был знатным лицом; в тюрьме он сохранил привычки аристократа: носил тонкое белье и любил изысканный стол; кроме того, кажется, недурно играл на гитаре. Через несколько лет комендант Пиньероля Сен-Марс, получив назначение на острова Святой Маргариты, перевез его туда с собой, а 18 сентября 1698 года, опять же вместе с Сен-Марсом, ставшим комендантом Бастилии, таинственный узник оказался в ее стенах, которые уже не покидал до самой смерти, последовавшей в 1703 году. В Бастилии ему сначала выделили отдельную комнату, но 6 марта 1701 года он очутился в одной комнате с Домеником Франсуа Тирмоном, обвиненным в колдовстве и растлении молодых девушек, а 30 апреля того же года к ним подселили Жана Александра де Рокорвиля, виновного в «произнесении антиправительственных речей», – все это по приказу короля. Со слов этих людей, видимо, и распространилась легенда о Железной Маске. Примечательно, что сам узник в маске ни разу ни словом не обмолвился сокамерникам о том, кто он и за какое преступление обречен на вечное инкогнито. После его смерти комната, в которой он жил последние месяцы, была тщательнейшим образом обыскана, стены выскоблены и заново побелены, мебель сожжена, а золотая и серебряная посуда переплавлена, – очевидно, власти боялись, что узник мог спрятать какой-нибудь клочок бумаги или нацарапать в укромном месте несколько слов о тайне своего заключения.
В знаменитом узнике видели самых разных лиц. Можно сказать, что любая знатная особа, жившая в XVII столетии, о чьей смерти не сохранилось достоверных сведений, немедленно выдвигалась каким-нибудь историком в претенденты на роль Железной Маски. Рассмотрим коротко наиболее популярные версии, в разное время казавшиеся окончательным решением этой исторической загадки.
Первое место среди них, безусловно, занимает гипотеза, пытающаяся доказать, или, скорее, верящая в существование брата Людовика XIV, якобы и скрытого из государственных соображений под маской. Ее отцом можно считать Вольтера, который в «Веке Людовика XIV» (1751) написал: «Железная Маска был брат, и, без сомнения, старший брат, Людовика XIV…» Своей же популярностью она обязана блестящему перу Дюма-отца: на этом «гвозде» висит сюжет «Виконта де Бражелона». У профессиональных историков эта легенда давно потеряла всякое доверие; в XIX веке ее придерживался один Мишле, ныне – уже никто. К ее недостаткам относится прежде всего отсутствие достоверных письменных свидетельств: все они, как выяснилось, являются апокрифами. Например, знаменитый в свое время рассказ «гувернера Железной Маски» («Несчастный принц, которого я воспитывал и берег до конца дней моих, родился 5 сентября 1638 года в восемь с половиной часов вечера, во время ужина короля. Брат его, ныне царствующий (Людовик XIV. – С. Ц. ), родился утром в полдень, во время обеда своего отца» и т. д.) содержится в так называемых записках маршала Ришелье, изданных Сулави, к которым, однако, сам маршал не имеет никакого отношения. Затем, система доказательств, приводимых этой версией, является порочной, поскольку нарушает принцип Оккама: «Не следует умножать сущности сверх необходимого» – иными словами, никто никогда не объяснит загадку Железной Маски существованием брата Людовика XIV, пока не будет доказано, что у последнего действительно был брат. В целом же к этой версии приложимы слова Монтескье: «Есть вещи, о которых говорят все, потому что о них однажды было сказано».
В период Первой империи возникла разновидность этой версии, согласно которой у Людовика XIII, помимо законного наследника – будущего Людовика XIV, – был внебрачный сын, устраненный после смерти отца своим сводным братом. На островах Святой Маргариты, куда его сослали, он якобы сошелся с дочкой тюремщика, которая родила ему сына; когда впоследствии узника в маске перевезли в Бастилию, его малолетнего сына отправили на Корсику, дав ему фамилию Буонапарте, что означает «с хорошей стороны», «от хороших родителей». Этой историей пытались доказать, что императорские короны не падают сами собой на головы артиллерийским поручикам.
Перейдем к следующему претенденту – графу Вермандуа, побочному сыну Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер.
В 1745 году в Амстердаме вышли «Секретные записки об истории Персии», в которых под вымышленными «персидскими» именами рассказывалась анекдотическая история французского двора. Между прочим в них говорилось, что у падишаха Ша-аббаса (Людовика XIV) было два сына: законный Седж-Мирза (Людовик, дофин) и незаконный Жиафер (граф Вермандуа). И вот «Жиафер однажды забылся до такой степени, что дал пощечину Седж-Мирзе». Государственный совет высказался за смертную казнь для Жиафера, нанесшего такое оскорбление принцу крови. Тогда Ша-аббас, нежно любивший Жиафера, послушался совета одного министра: отправив провинившегося сына в армию, объявил о внезапной его смерти в дороге, а на самом деле укрыл в своем замке. Впоследствии Жиафер для сохранения тайны своего исчезновения переезжал из крепости в крепость, а когда ему необходимо было повидаться с людьми – надевал маску.
Книга анонимного автора сразу сделалась популярной в Париже, на время потеснив остальные гипотезы о Железной Маске. Однако кропотливые исследования показали, что ни один мемуарист эпохи Людовика XIV ни словом не обмолвился об оскорблении, нанесенном дофину со стороны Вермандуа. Кроме того, официальная дата смерти графа (которая, по данной версии, должна соответствовать дате его исчезновения) – 18 ноября 1683 года – не позволяет ему в 1679 году уже находиться в Пиньероле в качестве Железной Маски.
Писатель Сен-Фуа видел в Железной Маске герцога Джемса Монмута.
Это был внебрачный сын английского короля Карла II Стюарта, вступившего на престол после смерти Кромвеля (1658), и куртизанки Люси Уолтерс. Король нежно любил его: незаконнорожденный принц, воспитанный в протестантстве, жил во дворце, имел пажей и прислугу, во время путешествий его принимали как члена королевской фамилии. Повзрослев, он получил титул герцога Монмута и стал первым человеком при дворе.
У Карла II не было законных детей, и потому наследником престола считался герцог Йоркский, чрезвычайно непопулярный в народе за свою приверженность к католицизму. По стране поползли слухи, что герцог Монмут – не менее законный наследник, чем герцог Йоркский, так как Карл II якобы сочетался тайным браком с Люси Уолтерс и т. п. Герцог Йоркский начал глядеть на Монмута как на опасного соперника, и тому пришлось уехать в Голландию. Здесь он встретил известие о смерти Карла II и о воцарении герцога Йоркского под именем Якова II.
11 июля 1685 года Монмут в сопровождении 80 человек высадился возле небольшого порта Лима, на дорсетширском берегу. Развернув голубое знамя, он смело вступил в город. Его встречали с восторгом. Со всех сторон к месту его высадки стекались недовольные королем, чтобы приветствовать «доброго герцога, герцога-протестанта, законного наследника престола». Через несколько дней под его началом собралось не менее шести тысяч человек; за армией следовала огромная толпа людей, не имевших оружия.
Однако после первых успехов потянулась полоса неудач: Лондон не поддержал претендента, экспедиция в Шотландию провалилась, аристократия не примкнула к бывшему кумиру, а парламент не провозгласил его королем.
Монмут быстро впал в полное отчаяние. В сражении с королевской армией при Седжмуре он бежал, бросив своих солдат, кричавших ему вслед: «Снарядов, Бога ради, снарядов!» Через несколько дней милиция Портмана задержала его близ Рингвуда: Монмут, одетый в лохмотья, сдался без единого слова, дрожа всем телом.
Во время следствия и суда над ним Монмут проявил недостойное малодушие: попросив короля об аудиенции, валялся у него в ногах и целовал руки и колени, умоляя о пощаде… Не лучше повел себя и Яков II. Согласившись встретиться с пленником, он тем самым подал ему надежду на помилование и по традиции должен был сохранить ему жизнь. Но король требовал смертного приговора, и 16 июля 1685 года Монмут был казнен в Лондоне на глазах у тысяч людей. Палач отрубил ему голову только с четвертого удара, за что едва не был растерзан толпой, боготворившей «доброго герцога-протестанта».
Сен-Фуа пытался доказать, что королевское происхождение Монмута должно было исключить применение к нему смертной казни и что на самом деле герцог был отправлен во Францию, а вместо него казнен другой человек. Но, как он ни старался, его версия осталась самой неубедительной из всех. Это, конечно, не означает, что она не годится в качестве основы для остросюжетного романа…
Загадочное исчезновение герцога де Бофора дало повод Лагранжу-Шанселю и Лангле-Дюфренуа создать систему доказательств в пользу его кандидатуры на роль Железной Маски.
Герцог Бофор был внуком Генриха IV и его любовницы Габриэли д'Эстре. Атлетическое телосложение, выразительные черты лица, неумеренная жестикуляция, привычка подбочениваться, усы, всегда закрученные вверх, – все это придавало ему весьма вызывающий вид. Он не получил никакого образования, был полным невеждой во всех науках, в том числе и в науке светской жизни. Двор смеялся над грубостью его манер и языка, зато армия боготворила его за отчаянную храбрость.
С началом Фронды он бросился в нее очертя голову, но играл в ее событиях довольно жалкую роль, потому что сам не знал хорошенько, за какое дело он, собственно, стоял. Он чрезвычайно нравился простонародью развязностью поведения и солдатской речью, за что заслужил прозвище «король рынков». С воцарением Людовика XIV Бофор стал самым покорным из подданных.
В 1669 году его назначили главнокомандующим экспедиционным корпусом, посланным к берегам Кандии, чтобы очистить этот остров от турок. Двадцать два военных линейных корабля и три галиота везли семитысячный десант – цвет французского дворянства. В некотором роде кандийскую экспедицию можно назвать новым крестовым походом.
Кандией когда-то владели венецианцы. К моменту описываемых событий в их руках оставался только крупнейший город острова, который они обороняли против численно превосходившего врага ценой неимоверных усилий. Один бастион был уже взят турками, и горожане со дня на день ожидали падения города и неминуемой резни.
В ночь на 25 июня подошедшая накануне французская эскадра высадила на острове десант; Бофор лично командовал одним из отрядов. Турки не выдержали натиска и обратились в бегство. Но в этот миг, когда солдаты Бофора уже предвкушали полную победу, взорвался пороховой склад с 25 тысячами фунтов пороха, уничтожив на месте целый батальон французов. Чудовищный взрыв произвел настоящую панику в их рядах, солдатам почудилось, что весь турецкий лагерь минирован. В одну минуту роли переменились: теперь французы сломя голову мчались к берегу, к своим лодкам, а воспрянувшие духом турки наседали на них, не давая опомниться.
О Бофоре во время бегства все как-то забыли; некоторые из беглецов потом смутно припоминали, что герцог, верхом на раненой лошади, вроде бы пытался собрать вокруг себя храбрецов, чтобы отразить вместе с ними турецкий натиск. Когда паника улеглась, Бофора хватились, но оказалось, что его нет ни среди спасшихся, ни среди убитых, ни среди раненых, ни среди пленных… Главнокомандующий бесследно исчез.
Вышеназванные авторы – сторонники отождествления герцога Бофора с Железной Маской – настаивали на том, что его похитил во время всеобщей паники Молеврье, брат Кольбера, враждовавшего с герцогом. Но опубликованная переписка Молеврье с братом опровергла этот довод. В первом же письме, отправленном в Версаль после неудачного десанта, Молеврье пишет: «Ничего не может быть плачевнее несчастной судьбы адмирала (Бофора. – С. Д. ). Будучи обязан в продолжение всего нападения бросаться в разные стороны, чтобы собрать все, что оставалось из наших войск, я положительно у всех спрашивал о Бофоре, и никто ничего не мог мне сказать». Да и возраст Бофора (он родился в 1616 году) плохо соответствует возрасту Железной Маски (Вольтер говорил, что слышал «от Марсолана, зятя бастильского аптекаря, что последний, за некоторое время до смерти замаскированного узника, слышал от него, что ему было около шестидесяти лет»).
Исследователи тайны Железной Маски, конечно, не могли пройти мимо удивительной судьбы суперинтенданта Фуке.
«Фуке, содержавшийся в Пиньероле, – пишет Поль Лакруа, – внушал еще ненависть Кольберу и постоянный страх Людовику XIV: можно сказать, что он обладал какой-нибудь важной тайной, открытие которой могло быть гибельно для государства или, по крайней мере, оскорбить гордость короля».
Предположение о некой тайне, забота о сохранении которой заставила короля надеть на Фуке маску и затем перевести в Бастилию, само собой отпадает, когда начинаешь знакомиться с тюремным режимом Фуке в Пиньероле. Как помнит читатель, содержание суперинтенданта постепенно смягчалось: ему разрешили переписываться и встречаться с родственниками, он имел возможность гулять вместе с Лозеном; кроме того, до 1679 года, когда в Пиньероле появилась Железная Маска, у него сменилось трое слуг. Все это плохо вяжется с якобы имевшимся у короля желанием изолировать Фуке, чтобы не допустить разглашения важных сведений.
Чтобы опровергнуть официальную дату смерти Фуке (1680 год), ссылались на следующее место из мемуаров Сен-Симона: «Никола Фуке, известный своими несчастьями, пробыв восемь лет суперинтендантом финансов, заплатил тридцатью четырьмя годами тюрьмы в Пиньероле за несколько миллионов, которые были взяты кардиналом… Он умер в Пиньероле в 1680 году, семидесяти пяти лет от роду, целиком занятый в течение долгих лет спасением своей души».
Как видим, Сен-Симон называет ту же самую дату смерти Фуке, но при этом допускает загадочные неточности. Он говорит, что Фуке пробыл в заточении 34 года – тогда его смерть должна была произойти в 1695 году! Если же он умер в 1680 году, то ему должно было быть 65 лет, а не 75, как утверждает Сен-Симон. Впрочем, в обоих случаях нет соответствия возрасту и дате смерти Железной Маски. Что бы ни имел ввиду Сен-Симон, прозрачно намекая на существование каких-то тайн в судьбе Фуке, нет никаких серьезных оснований ставить под сомнение его смерть в 1680 году или подозревать, что вместо него был похоронен кто-то другой. Известно, что Фуке умер на руках сына и в присутствии дочери; кроме того, имеется письменное распоряжение Людовика Сен-Марсу «выдать тело Фуке его семейству, чтобы они перевезли его куда угодно».
Писатель Толе прочитал в мемуарах маркиза Боннака, французского посланника в Константинополе (начало XVIII века), о том, что патриарха Аведика сослали на острова Святой Маргариты, а оттуда перевели в Бастилию, где он и умер.
«По прочтении этого места, – пишет Толе, – мне тотчас пришло на ум, что личность эта с большой долей вероятности может быть Железной Маской. Убеждаясь потом более и более в этом предположении посредством множества фактов, возникавших в моей памяти по мере того, как я читал дальше, я сказал с новой уверенностью: «Да, это он самый! Вот Железная Маска!»
Действительно, это предположение удачно объясняло молчаливость узника в маске и необходимость скрывать его от посторонних глаз. Но историки, детально проследившие крестный путь армянского патриарха, не обнаружили никаких следов его пребывания на островах Святой Маргариты, а сопоставление дат жизни и смерти Аведика и Железной Маски, подтвержденных письменными источниками, полностью опровергает версию Толе, который в конце концов признал свою ошибку.
Совершенно невозможно хотя бы кратко остановиться на всех версиях, объясняющих личность и преступление Железной Маски. Добавлю еще, что в нем видели незаконнорожденного сына Кромвеля; Марии Луизы Орлеанской, первой жены испанского короля Карла II; Марии Анны Нейбургской, второй жены того же короля; Генриетты Орлеанской и Людовика XIV; ее же и графа де Гиша; Марии Терезии, супруги Людовика XIV, и негра-служителя, привезенного ею с собой из Испании; Христины, королевы Швеции, и ее великого конюшего Мональдеска; также говорили о том, что за маской могла скрываться женщина.
Эти легенды так занимали весь свет, что даже Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI, по слухам, интересовались Железной Маской и якобы открывали друг другу на смертном одре эту необыкновенную тайну – на этом настаивал историк Мишле. Герцог Шуазель рассказывал, что на его вопрос, кто скрывался под Железной Маской, Людовик XV ответил: «Если бы вы узнали его настоящее имя, то очень разочаровались бы, оно вовсе не интересно». А госпожа Помпадур уверяла, что на ее аналогичный вопрос король сказал: «Это министр итальянского принца».
Наконец Людовик XVI велел министру Морепа прояснить эту загадку. Проведя расследование, Морепа доложил королю, что Железная Маска был опасным интриганом, подданным герцога Мантуанского.
Фундаментальное исследование Тапена, а также работы историков Ф. Брентано и А. Сореля подтверждают, что Морепа скорее всего сказал правду: знаменитым узником был граф Эрколь Антонио Маттеоли, министр Карла IV, герцога Мантуанского.
Карл отличался разгульным поведением и совершенным равнодушием к делам государства – большую часть года он проводил в Венеции, а в Мантуе правили его фавориты. Герцог очень быстро истощил свою казну и свое здоровье, но сохранил неутолимую жажду удовольствий. В поисках денег он готов был продать что угодно.
Аббат Эстрад, тогдашний посол Людовика XIV в Венеции, воспользовался хроническим безденежьем Карла, чтобы оказать своему правительству важную услугу. Он вознамерился заставить герцога продать Людовику город Казале, являвшийся ключом к Верхней Италии. Замысел предприимчивого аббата сулил королю возможность в любое время вмешиваться в итальянские дела и противодействовать аналогичному стремлению Испании и Австрии; однако скандальная покупка, противоречащая нормам международного права и затрагивающая интересы многих держав, должна была состояться в строжайшей тайне. Ища посредника в этой сделке среди фаворитов герцога, Эстрад остановился на Маттеоли как на лице, имеющем наибольшее влияние на Карла.
Маттеоли родился в Болонье 1 декабря 1640 года в родовитой и богатой семье. В юности, будучи студентом, он уже получил некоторую известность, удостоившись высшей награды по гражданскому праву, а после окончания учебы – звания профессора в Болонском университете. Породнившись с почтенным сенаторским семейством в Болонье, он перебрался в Мантую, где снискал расположение Карла IV, который сделал его сверхкомплектным сенатором – с этим званием было сопряжено графское достоинство. Маттеоли был чрезвычайно честолюбив и метил на место первого министра. Но для этого он искал случая оказать герцогу какую-нибудь важную услугу, – вот почему он с радостью ухватился за предложение Эстрада.
Между ними было решено устроить секретное свидание Эстрада с Карлом в Венеции во время карнавала, так как этот праздник давал возможность ходить в маске, не привлекая внимания.
В полночь 13 марта 1678 года, при выходе из Дворца дожей, замаскированные Эстрад и Карл встретились как бы случайно на площади и целый час обсуждали условия договора. Герцог согласился уступить Казале за 100 тысяч экю, с тем чтобы эта сумма была выплачена ему при обмене ратифицированными договорами, в два срока, через три месяца каждый. Так эта постыдная сделка состоялась в центре Венеции – города, который славился своими шпионами и правительство которого всеми силами стремилось не допустить французского проникновения в Северную Италию!
Через несколько месяцев Маттеоли, тайно прибывший в Версаль, получил экземпляр договора с подписью короля. Сразу после этого он имел секретную аудиенцию у Людовика и был принят им самым благосклонным образом. Король подарил ему на память ценный алмаз и велел выдать 400 двойных луидоров, обещая еще более значительную сумму после ратификации договора со стороны герцога.
Казалось, ничто не могло помешать успешному окончанию переговоров. Однако не прошло и двух месяцев после посещения Маттеоли Версаля, как дворы Туринский, Мадридский, Венский, Миланский, Венецианская республика, – то есть все, кому было выгодно помешать сделке, узнали в малейших подробностях об условиях договора. Эстрад уведомил Людовика, что имеет несомненные доказательства предательства Маттеоли.
Сейчас уже невозможно с точностью сказать, что явилось причиной этого поступка Маттеоли: корысть или запоздалый патриотизм. Кажется, благополучный исход переговоров сулил ему если не больше выгод, то, по крайней мере, меньше хлопот.
Людовику пришлось бить отбой в тот момент, когда отряд французских войск во главе с новым комендантом был уже готов вступить в Казале. Помимо понятной досады, короля мучила мысль о возможном международном скандале, так как в руках у Маттеоли оставались ратификационные документы с личной подписью Людовика. Чтобы вернуть их, Эстрад предложил захватить Маттеоли. Король ответил в депеше от 28 апреля 1679 года: «…Его Величеству угодно, чтобы вы привели свою мысль в исполнение и велели отвезти его тайно в Пиньероль. Туда посылается приказ принять и содержать его так, чтобы никто не знал об этом… Нет никакой надобности уведомлять герцогиню Савойскую об этом приказании Его Величества, но необходимо, чтобы никто не знал, что станется с этим человеком». В этих словах, полных холодной ненависти к тому, кто чуть было не сделал «короля-Солнце» посмешищем всего света, заключена вся дальнейшая судьба Маттеоли – Железной Маски.
2 мая его схватили «без шума» во время встречи с Эстрадом в какой-то деревне под Турином и переправили в Пиньероль. Бумаг, компрометирующих французское правительство, при нем не оказалось, но под угрозой пытки Маттеоли признался, что отдал их отцу. Его заставили написать своей рукой письмо, по которому агент Эстрада беспрепятственно получил от Маттеоли-старшего эти важные документы, немедленно переправленные в Версаль.
Еще ранее Людовик тайно отозвал войска от границы с Италией, и таким образом все следы скандальной сделки с герцогом Мантуанским исчезли. Оставался Маттеоли, но, как мы видели, король позаботился, чтобы исчез и он.
Эстрад распространил слух, что Маттеоли стал жертвой дорожного происшествия. Карл IV сделал вид, что поверил этому объяснению, поскольку сам хотел поскорее замять постыдную историю. Семья Маттеоли промолчала: его жена ушла в монастырь, отец вскоре умер. Никто из них не сделал ни малейшей попытки разузнать подробнее о его судьбе, словно чувствуя опасность подобных поисков.
Все заботы о сохранении инкогнито Маттеоли были возложены на коменданта Пиньероля Сен-Марса; с этого времени они сделались как бы узниками друг друга.
У заключенных нет истории. Мы знаем только, что Маттеоли после двух неудачных попыток подать о себе весть полностью смирился со своей участью.
Тапен в своей книге не обошел вниманием и вопрос о том, откуда взялась пресловутая маска и почему пленника Сен-Марса скрыли под ней. В XVI–XVII столетиях обычай ношения маски был широко распространен среди знати, чему есть много исторических примеров. В мемуарах Жерарда описывается, как Людовик XIII, пришедший на свидание с Марией Манчини, «поцеловал ее через маску»; герцогиня Монтеспан разрешала своим фрейлинам носить маски, о чем она пишет в своих воспоминаниях; Сен-Симон свидетельствует, что маршальша Клерамбо «на дорогах и в галереях всегда была в черной бархатной маске»; полицейские отчеты начальника парижской полиции Рейни свидетельствуют о том, что в 1683 году жены банкиров и купцов осмеливались приходить в масках даже в церковь, несмотря на строгое запрещение властей.
Таким образом, необычность случая Железной Маски состоит лишь в том, что маску надели на узника, чему действительно нет ни одного примера в истории французских тюрем. Однако относительно итальянца Маттеоли употребление маски было совершенно естественно. В Италии часто надевали маски на заключенных. Так, в Венеции лица, арестованные инквизицией, препровождались в тюрьму в масках. Маттеоли, сотоварищ увеселений герцога Мантуанского, несомненно, имел при себе маску, под ней он скрывался и во время переговоров с Эстрадом. «Конечно, – пишет Тапен, – она была в числе его вещей, захваченных в 1678 году…» Вопрос о том, почему на Маттеоли надели маску при перевозе его в Бастилию, решается довольно просто: Маттеоли прожил в Париже несколько месяцев во время своего тайного визита во Францию в 1678 году и, следовательно, мог быть узнан; кроме того, в 1698 году, то есть когда Сен-Марс привез его с собой в Бастилию, в крепости сидел итальянец, граф Базелли, знакомый со множеством знатных семейств Мантуи и Болоньи и, без сомнения, знавший в лицо Маттеоли. Чтобы сохранить тайну похищения мантуанского сенатора, Сен-Марс воспользовался средством, исключительным для всех, кроме итальянца Маттеоли. Вот почему последний спокойно носил маску, в то время как все видевшие его сгорали от возбуждения и любопытства.
В бастильском журнале Дюжонка есть две записи, относящиеся к Железной Маске. Первая гласит: «Губернатор островов Святой Маргариты Сен-Марс 18 сентября 1698 года вступил в должность коменданта Бастилии и привез с собой неизвестного узника в черной бархатной маске, который еще до прибытия на острова содержался под надзором в крепости Пиньероль». Вторая запись от 19 ноября 1703 года говорит о том, что в этот день «неожиданно умер неизвестный узник в бархатной маске, которого Сен-Марс всегда возил с собой». Сен-Марс занес покойного в списки церкви Святого Павла под именем Мартеоли (так, кстати, часто называл Маттеоли Лувуа в своих депешах Сен-Марсу). Вполне вероятно, что за долгие годы комендант подзабыл имя своего пленника или сделал описку – в то время часто неправильно писали имена, особенно иностранные.
Алхимики и фальшивомонетчики
Те и другие в изобилии обнаружились во Франции в начале XVIII столетия, когда из-за длительной и неудачной войны за испанское наследство в стране стала остро ощущаться нехватка звонкой монеты. С этих пор и до смерти Людовика они стали постоянными клиентами Бастилии. Остановимся на двух узниках – настоящих виртуозах своего дела, принадлежащих к этой категории заключенных.
Крупный мошенник по имени Винахе назван в бастильских протоколах поэтически – чудесным доктором, алхимиком, искателем таинств и философского камня, и прозаически – человеком, занимающимся изготовлением и обрезанием монеты, то есть фальшивомонетчиком.
Винахе был неаполитанец. На родине он нищенствовал; не умел ни читать, ни писать, выучился только механически подписывать свое имя, да и то не всегда правильно. Тем примечательнее, что высший свет Парижа почитал его за великого медика и ученого.
В 1689 году Винахе каким-то образом сумел познакомиться с герцогом Шолнешским, путешествующим по Италии. Герцог привез его с собой во Францию и помог поступить рядовым в Рояль-Руссильский полк, откуда в 1691 году Винахе бежал, прихватив с собой несколько офицерских мундиров, отданных в починку портному Никола – его товарищу. Дорогой он был задержан и препровожден в тюрьму как дезертир. Граф Овернь, по каким-то неизвестным причинам принявший участие в его судьбе, выхлопотал ему помилование и освобождение.
В 1692 году Винахе приехал в Париж и по рекомендации герцога Шолнешского остановился в каком-то грязном трактире – не имея ни полушки денег, ни работы, ни мало-мальских познаний в каком-нибудь ремесле. Хозяин трактира Булло прежде торговал свечами и разорился на этом деле. Герцог покровительствовал ему, или, лучше сказать, его молодой и щеголеватой дочери. Через полгода герцог бросил ее, и Булло как добрый отец, желая загладить ее распутство, предложил Винахе жениться на ней. В качестве приданого он обещал 2500 ливров, которых у него не было, и крышу над головой. Винахе согласился.
До 1697 года он жил с женой тихо и бедно, пробавляясь случайным заработком от продажи чудодейственных лекарств. Мало-помалу ему стало нравиться ремесло знахаря, особенно он гордился «паранеслоном» – необыкновенным средством от лихорадки собственного изобретения. Разумеется, вскоре он стал утверждать, что лечит все болезни, без исключения. Впрочем, он был шарлатаном только наполовину, так как рецепты всех свои чудесных снадобий брал из медицинских книг, которые читала ему его жена, а он лишь придумывал известным лекарствам собственные небывалые названия вроде помянутого «паранеслона».
Винахе настолько уверился в своем блестящем будущем (читай: людской глупости), что в разговоре с одним заезжим соотечественником сказал, чтобы тот не удивлялся, если скоро увидит его, едущего в карете, запряженной шестеркой лошадей.
И в самом деле, уехав в следующем году в Бретань, он возвратился оттуда барином: правда, карета была запряжена всего двумя лошадьми. Винахе снял отдельный дом для себя и своей семьи и завел камердинера и двух лакеев.
С 1698 по 1700 год он усиленно занимался алхимией и в 1701 году был уже в большой славе как обладатель философского камня. Герцог Шолнешский предлагал ему тысячу ливров для постройки печей и приобретения химического оборудования, а какой-то купец готов был дать и 25 тысяч.
Винахе богател не по дням, а по часам. Первое купленное имение обошлось ему в 7-8 тысяч ливров; затем он приобрел еще несколько поместий, которые давали ему вместе 3 тысячи ливров годового дохода. В одном из них он построил плавильную печь и завел лабораторию, одновременно распустив слух, что имеет в услужении духа, названного им Кобальдом, который якобы доставлял ему счастье во всех предприятиях; дух обитал в подушечке, набитой шерстью, которую он носил на затылке, говоря всем, что Кобальд отметил его знаком вдоль спины в виде змеи. Он показывал также циркуль, одна ножка которого была золотая, четырехугольная, а другая – серебряная, треугольная. С этим циркулем он, по его словам, мог добиться невозможного в своей науке.
Теперь Винахе предпочитал иметь дело только с высокопоставленными особами. Так, он предлагал адмиралу Деспондю, если тот согласится проделать с ним некоторые обряды, отправиться к нему на корабль и с помощью своего духа сделать судно непотопляемым и непобедимым. На это предложение он получил ответ бравого моряка, что искусство Винахе слишком противоречит искусству самого адмирала, так что он обойдется без его услуг, как до сих пор обходился без них во множестве сражений. А герцог Наваррский уверял, что Винахе обманул его на 8 тысяч ливров, вызвавшись обучать тайнам своей науки и так ничему и не научив. На него также жаловался некий дворянин, которому Винахе за 5 тысяч ливров пообещал констеллировать алмаз, обладающий способностью помогать своему владельцу выигрывать в карты; по прошествии года дворянин, чьи проигрыши и выигрыши примерно уравновесили друг друга, потребовал деньги обратно и получил их, правда, при этом утратив доверие к ученым. Подобный алмаз желал приобрести и герцог Орлеанский – будущий регент.
Самым близким друзьям Винахе говорил, что знает тайну философского камня, и если бы мог надеяться, что король и министры не потребуют ее раскрыть, то обязался бы доставить казне 300 миллионов так же легко, как три луидора.
Протоколы допросов Винахе показывают, что он действительно должен был держать в секрете тайну своего «философского камня».
Уже за два года до ареста полиция подозревала Винахе в изготовлении фальшивой монеты. Его жена на допросах показала, что не раз видела, как муж растапливал золото и серебро, которые целыми коробами доставлялись ему на дом; он также обрезал ходячую монету. Его сообщниками в этом деле были известный банкир Самуэль Бернар и его кассир Тронен, Менажер – королевский секретарь и контролер торговли в Руане, голландский банкир Вандергульц и его сын. Золотые слитки Винахе продавал ростовщикам и золотых дел мастерам по 52–70 ливров за унцию, в зависимости от качества металла. Самые крупные покупатели переплавленного золота находились в Женеве. За день до отъезда в Швейцарию Тронен приходил на дом к Винахе, и они проводили вместе всю ночь, пряча в чемоданах золотые слитки. В Женеве слитки смешивали с медью и продавали как золото низкой пробы.
Это преступление наказывалось смертью, но Винахе вел дело очень искусно и несколько лет безнаказанно торговал золотыми слитками в Женеве, Страсбурге, разных городах Дофине и Савойи. Правда, слуги Винахе часто находили в его комнате и лаборатории золотые слитки и куски луидоров, которые они продавали ростовщикам и получали таким способом солидную прибавку к жалованью. Чтобы отвести от себя подозрения, Винахе говорил им, что имеет королевское разрешение на переплавку монеты. Но, разумеется, эти отговорки мало помогали. Его жена однажды застала слуг за разговором о несметном богатстве их господ, и так взволновалась, что уговорила мужа дать им несколько луидоров, чтобы они молчали. В 1703 году, опасаясь разоблачения, Винахе отослал троих слуг (из имевшихся у него семи) в Руан, Фландрию и Рим и назначил им хорошее содержание.
Химик Туриати, принятый Винахе на работу в августе 1702 года, рассказал следствию немало интересного о методах работы фальшивомонетчика. Винахе велел ему купить две плавильные печи, несколько стеклянных сосудов и отвезти все это в одно из своих поместий. Две недели спустя он прибыл туда сам. «Винахе велел перенести обе плавильные печи в свою спальню, – рассказывает Туриати, – куда слуги должны были принести много угольев и колодезной воды; последние три дня второй недели, пока продолжались работы, Винахе заперся в этой комнате и не оставлял ее. Он сам брал у дверей ведро с водой у людей из рук, никогда не впускал туда никого, кроме Тронена, который несколько раз в день входил и выходил, а вечером еще долее там оставался. Поутру третьего дня показали мне горничная и лакей кусок золота весом более фунта, множество золотых кружочков, несколько кусков серебра, двойной луидор, который горничная нашла у печки под пеплом; лакей нашел также в печке среди крупинок золота полурастопленный полулуидор». Туриати, заметив, что Винахе не потребовал у прислуги их находок, при первом удобном случае обследовал спальню, когда горничная убирала ее, и, осмотрев печи, нашел в них золотые крупинки и куски серебра, смешанного с золотом.
«Я видел также некоторые фарфоровые сосуды, – продолжает Туриати, – наполненные ртутью, которая почти вся была амальгамирована, или смешана с рудами. Я воспользовался присутствием жены его, чтобы открыть ей намерение слуг отнести найденное золото и серебро на монетный двор и донести на них. Они позвали всех людей и отобрали у них найденное. Винахе сказал им в моем присутствии, что он намеревался сделать золото, годное для добавления в лекарства; причем он сослался на меня как на знатока, который должен был подтвердить его слова; при этом вынул между прочим из кармана горсть золотых монет величиною с талер, желая доказать слугам своим, что то были не французские луидоры, но иностранная монета; но они имели дерзость сказать ему в глаза, что они очень уверены в противном и знают, что в продолжение трех дней, когда он запирался с Троненом, он чеканил монету, прибавив к тому, что они сделают на него донос, если он не согласится составить их счастие. Винахе взялся за мягчайшую струну, обещая наградить их, и добился того, что они выдали ему большой кусок золота и несколько золотых крупинок, которые на другой день он заставил меня растопить, и приказал пригласить к себе Тронена и Менажера, которые с ним и ужинали. В одиннадцать часов вечера карета была заложена и послана за комиссаром полиции Сокартом, который приехал через полчаса в мундире и был введен на второй этаж, где еще сидели за столом (Винахе с гостями. – С.Ц. ). Винахе приказал снова подать на стол для комиссарa, который просидел с ним почти час. После чего госпожа Винахе созвала на крыльцо слуг своих, из коих горничная должна была первая войти в комнату, где находился полицейский комиссар, Винахе и два гостя. Она пробыла там полчаса; после чего позвали меня, предупредив прежде, чтобы на деланные мне вопросы я не иначе отвечал, как утвердительно, и выдавал себя за ювелира, а не за химика; в противном же случае угрожали мне большими неприятностями, чего опасаясь, я отвечал, как они желали. После меня привели лакея, и весь допрос кончился в час пополуночи, и комиссар в той же карете отъехал домой. На другое утро прочие слуги давали также свои показания, но только в доме комиссара.
Винахе сделался против нас горделивее, самоувереннее и сказал, что более не боится нас, ибо если бы нам когда-нибудь пришла мысль говорить противное нашим показаниям комиссару, то он велит повесить нас как лжесвидетелей».
Забегая вперед, скажем, что Сокарт впоследствии также был посажен в Бастилию, так как его поступок сочли в высшей степени преступным.
Через две недели после описанных событий Туриати увидел у дома телегу, нагруженную мешками, в каждом из которых находилась тысяча ливров. На его вопрос, кому предназначены эти деньги, Винахе ответил, что хочет дать взаймы городскому начальству. Здесь надо сказать, что самому Туриати не платили ничего, а на его жалобу предложили уехать в Вест-Индию, где он, по словам Винахе, будет так же доволен, как другие слуги, отправленные им в Рим, Руан и Фландрию. «Я отвергнул это предложение, – говорит Туриати, – потому что питал большое отвращение к морским путешествиям».
Примечательно, что Винахе, ведя столь обширную торговлю, не держал приходо-расходной книги: память заменяла ему ее. Между тем через его руки проходили огромные суммы. Так, он купил на одном аукционе бриллиантов на 60 тысяч ливров; его жена носила на себе драгоценностей еще на 40 тысяч. Золото у него в доме было столь обычным явлением, что в январе 1704 года, за месяц до ареста, в его комнате стояли мешки с луидорами, и еще 15–20 мешков находились в шкафу с грязным бельем; в каждом мешке было 10 тысяч ливров. Винахе купил себе роскошный дом, где принимал высшее парижское общество; он имел карету с четверкой лошадей и трех верховых лошадей, лучших в Париже. Незадолго до ареста он хотел приобрести за 25 тысяч ливров поместье Эрмоновиль, известное впоследствии тем, что в нем жил Руссо.
Винахе жил с блеском, зато посредники его сделок получали жалкие крохи. Следствием этого явился донос, поданный в декабре 1703 года уже не какому-то жалкому полицейскому комиссару, а самой госпоже де Ментенон. Фаворитка послала к Винахе своего шталмейстера Мансо, чтобы он под видом покупки алмазов для иностранной княгини осмотрел дом. Вернувшись, Мансо доложил, что видел в картинной галерее полотен более чем на 25 тысяч луидоров, чайный столик с серебряной и золотой посудой, которую он оценил в 10 тысяч луидоров, и т. д.
Госпожа де Ментенон поручила министру Шамилляру лично побеседовать с подозрительным богачом. Тот вызвал Винахе в Версаль якобы для того, чтобы посоветоваться с прославленным медиком о каких-то лекарствах, и незаметно направил беседу на причину приезда Винахе во Францию. Винахе, желая придать себе важности, начал рассказывать нелепицы, вроде того, что он вельможа из Неаполя и приехал в Париж с герцогом Шолнешским, которого удостоил дружбой; что женился по его рекомендации и получил 40 тысяч ливров приданого; что глубокие познания в медицине принесли ему всемирную славу и огромное состояние, потому что своими химическими опытами он довел действенность изготовляемых им лекарств до совершенства и т. д. Шамилляр простился с ним весьма благосклонно.
Через три дня после этого разговора Винахе был арестован и посажен в Бастилию. Его сообщники остались на свободе.
В тюрьме он пробыл недолго: после второго допроса его нашли зарезавшимся в своей камере. Его жене, без помех вступившей во владение наследством, сказали, что ее муж умер от сердечного удара.
Возможно, в этом деле была какая-то не известная нам изнанка, на что указывают записи в журнале Дюжонка:
«Великий четверг, 20 марта 1704 года. Во втором часу ночи, в присутствии тюремщика Лабатоньера и капрала Мишеля Гирланка, умер Винахе, итальянец, который был заключен в Бастилии в третьей комнате башни, называемой Бертодьер. Как скоро он умер, то два стража сии уведомили о том майора Розаржа, который тотчас встал и пошел в комнату умершего Винахе, который погиб от собственной руки, сделав на шее под подбородком большую и глубокую рану своим ножом вчера, в среду, в час или два пополуночи. Всякая помощь и скорая перевязка не в состоянии были спасти его; когда же он несколько приходил в память и, казалось, хотел говорить, то священник наш все возможное употреблял, чтобы исповедовать его, но труд его остался напрасен. В девять часов вечера объявили об этом несчастье д'Аржансону, который тотчас сам пришел видеть сего несчастного, погубившего самого себя.
Суббота, 22 марта. Вчера около шести часов вечера похоронили Винахе под именем Стефана Дюрана в ограде церкви Святого Павла. Прежде чем положили его в гроб, пришел в субботу же в четыре часа пополудни еще раз д'Аржансон в замок, чтобы видеть и осмотреть труп».
В этих наивных записях настораживает странная настойчивость начальника полиции, дважды осматривающего труп, чтобы убедиться в самоубийстве Винахе: обычно д'Аржансон не проявлял такого внимания к умершим заключенным Бастилии. Непонятно также, зачем понадобилось хоронить Винахе под чужим именем, к тому же скрыв его настоящий возраст, – в церковной книге значится, что покойному было шестьдесят лет, хотя на самом деле Винахе было тридцать восемь. Возможно, Винахе не покончил самоубийством, а был убит из-за того, что через него обогащались слишком высокопоставленные лица, имена которых могли всплыть на допросах. Смерть Винахе – одна из тех тайн Бастилии, которые никогда не будут разгаданы.
Жан Труен, по прозвищу Делиль, оружейный мастер, тридцати девяти лет, был арестован 4 марта 1711 года. Он уверял следователей, что знает тайну превращения металлов; между тем он был совершенно безграмотен. Его жизнь можно проследить по материалам протоколов допросов.
Делиль родился где-то на юге Франции и в юности обучался оружейному делу. Двадцати девяти лет он уехал в Ниццу, где познакомился с итальянцем Дионисием, который приохотил его к занятиям химией или, точнее, алхимией. В течение восьми месяцев они собирали в горах необходимые травы и минералы, а затем переехали в Авиньон. Там Дионисий продемонстрировал Делилю свое искусство в изготовлении золота. Используя свинец, известь, травы lunaria major и lunaria minor, а также некоторые минералы, он извлекал из них что-то вроде ртути, из которой затем получал «металлический порошок»; последний помещался в бутылку, заливался специально изготовленным «маслом» (известковое золото, соки трав и селитра), содержимое бутылки перемешивалось и ставилось на солнце до тех пор, пока не исчезнет вся жидкость: в зависимости от климата приходилось ждать год или даже два. Опыт не всегда удавался, а почему – Делиль не умел объяснить. Долгие годы он работал под руководством итальянца, получая в виде вознаграждения кусочки золота, серебра и «металлический порошок» для самостоятельной практики.
Со временем Делиль превзошел своего учителя, и слава о нем распространилась по всему Провансу. Какие-то купцы дали ему три тысячи ливров, чтобы он мог получить большое количество дорогостоящего «металлического порошка»; барыши должны были делиться пополам. (Впоследствии купцы заявили, что лишились своих денег.) Но главное – в него поверил местный епископ, известивший двор о чудесных познаниях Делиля. По словам епископа, он сам занимался химией, почему и решил лично понаблюдать за его опытами. Делиль у него на глазах превратил в очаге несколько железных гвоздей в кусочки серебра, которые епископ отослал в Экс к золотых дел мастеру Амперу, признавшему эти кусочки за чистое серебро. Окончательно епископ удостоверился в истинности метода Делиля, когда сам, под его руководством, с успехом проделал тот же опыт.
Министр Понтшартрен заинтересовался алхимиком и попросил епископа прислать его в Версаль. В ответном письме епископ сообщил, что Делиль дал согласие на поездку не ранее чем через два года, так как нынешний, 1710 год, выдался холодным и дождливым, из-за чего «металлический порошок» не получился; в заключение он добавил, что Делиль ведет добропорядочную жизнь и упрекнуть его не в чем, но «философ сей» весьма упрям и несговорчив и постоянно твердит пословицу, что поспешность не ведет к добру.
В течение следующего года в Прованс приезжали чиновники, имевшие поручение собрать достоверные сведения о Делиле и его опытах. Один из них писал в Париж статс-секретарю Ноантелю: «Сим имею честь сообщить Вам довольно темные понятия о нашем философе; в пользе его искусства я никогда не был совершенно уверен; что же касается опытов, которые я сам действительно производил (под руководством Делиля. – С. Ц. ), то должен в сем случае отдать ему полную справедливость». По его словам, он был свидетелем того, как Делиль сделал золотую палочку в три унции весом, а потом из пистолетных пуль получил золотую бляху и несколько кусочков золота.
Эти проверки тем не менее кончились арестом Делиля. В письме епископу от 10 марта 1711 года последний известил своего покровителя, что арестован в Ницце по приказу короля, и просил его незамедлительно ехать в Париж, взяв с собой пузырек «металлического порошка», чтобы он, Делиль, мог «открыть королю тайну». Епископ в письме Ноантелю от 14 марта выразил свое недоумение по поводу случившегося, уверяя, что враги и завистники таким образом нарочно хотят ожесточить «философа», чтобы он «умер от досады» или сошел с ума, будучи от природы недоверчивым и чувствительным. Добрый прелат добавлял, что через сутки выедет в Париж, чтобы добиться аудиенции у короля.
11 апреля Делиля доставили в Бастилию. С ним обращались хорошо, давая понять, что король хочет видеть продолжение его опытов здесь, в Бастилии, для чего ему будет доставлено все необходимое. Волей-неволей Делиль взялся за дело.
В течение всего лета и начала осени он под наблюдением нескольких чиновников (в том числе и приехавшего епископа) изготавливал «металлический порошок». Было замечено, что он использует ртуть, селитру, мышьяк и серу. 29 октября в комнату коменданта поставили маленькую печь, и началась переплавка порошка в золото. Комендант должен был собственноручно заносить все подробности опытов в протокол. Что касается епископа, то он был так уверен в познаниях Делиля, что часто во время работ падал на колени и просил Бога о благословении его трудов и даровании успеха.
Несмотря на эти горячие молитвы, опыты не удались. 27 января 1712 года было решено устроить Делилю первый допрос по всей форме. С этого времени Делиль сделался приметно грустен и не говорил ни о чем, кроме смерти.
Утром 30 января у него сделалась сильная рвота, под вечер он почувствовал слабость, потерял способность речи и умер так тихо, что его смерть обнаружили только на следующий день.
Все использовавшиеся им материалы вместе с описанием метода его работы были сданы начальнику полиции д'Аржансону. При повторении опытов было получено золото 22-й пробы. Д'Аржансон переслал его генеральному контролеру финансов с письмом, где называл Делиля обманщиком, употребившим во зло доверие многих особ.
Первый беглец
Невыносимые условия заключения, а еще более – любовь к свободе и ненависть к королевскому произволу, побуждали некоторых узников своими силами добиваться освобождения. Примером проявленной ими при этом замечательной изобретательности, терпения и мужества может служить история графа Дюбюкуа.
В двадцатипятилетнем возрасте этот молодой человек, прежде отличавшийся весьма беспорядочным образом жизни, неожиданно для всех сделался монахом картезианского ордена. Но обет молчания и строгая дисциплина скоро наскучили ему, и он снова поступил на военную службу – в один из королевских отрядов, действовавших против контрабандистов.
По дороге к месту назначения Дюбюкуа услышал, что солдаты его полка арестовали шайку контрабандистов. Раздосадованный тем, что ему не пришлось принять участия в драке, Дюбюкуа неосторожно сказал в присутствии старосты деревни, где он остановился на ночлег, что, будь он начальником контрабандистов, солдатам пришлось бы несладко. Староста тотчас велел арестовать подозрительного говоруна. К несчастью для Дюбюкуа, при нем обнаружили некоторые бумаги, свидетельствующие о том, что он интересуется политикой, – в то время этого было достаточно, чтобы счесть человека преступником. К тому же благодаря своенравному характеру арестованного он за какой-нибудь час приобрел репутацию величайшего злодея.
С этого времени и начались его приключения или, точнее, злоключения. Конвой, сопровождавший Дюбюкуа в Париж, остановился для ночлега в Мелюне. Графа приковали за ногу к ножке кровати. Ночью, когда все заснули, арестант приподнял кровать и снял с ножки цепь. Никем не замеченный, он добрался до окна, но здесь случайно наступил на спящего сторожа. Солдат поднял тревогу, и Дюбюкуа схватили.
В Париже его сдали в форт Левек в качестве арестанта. После первого же допроса Дюбюкуа причислили к категории неисправимых и подвергли одиночному заключению. Предприимчивый узник решил бежать из форта во что бы то ни стало. Помещение, где он находился, примыкало к чердаку, в котором имелось слуховое окно. Ночью Дюбюкуа поджег дверь комнаты вокруг замка, выломал его и таким образом сумел выйти в коридор. Затем он поднялся на чердак, сделал из найденных там тюфяков длинную веревку и спустился с шестого этажа по стене, утыканной гвоздями. Когда он достиг земли, его одежда превратилась в лохмотья, и громкие насмешки мальчишек, сопровождавших его по улицам Парижа, только чудом не привлекли к нему внимания полиции.
Девять месяцев он скрывался в городе у друзей, посылая королю одно за другим прошения, в которых требовал расследования по своему делу; все они оставались без ответа. Наконец Дюбюкуа покинул Париж с намерением пробраться за границу, но в Ла-Фере был арестован по недоразумению: его приняли за другого. Не ожидая допроса, Дюбюкуа решил бежать из тюрьмы. Он благополучно пробрался на тюремную крышу, но, когда стал спускаться по кровельному желобу, одна женщина увидела его и подняла тревогу. Беглеца схватили и водворили на место. Тогда он вылез через отдушину в камере и бросился в ров, наполненный водой; однако та же самая женщина вновь оказалась рядом и вторично выдала его солдатам. На этот раз Дюбюкуа отправили в Бастилию, которая одна была достойна содержать такого арестанта.
В Бастилии его для исправления сначала подвергли одиночному заключению; на его содержание выделили ежедневно всего три ливра. (Это было время комендантства Бернавиля, когда-то служившего лакеем у маршала Бельфона.) После первого допроса его посадили в одну комнату с тремя другими заключенными, которых Дюбюкуа сразу же стал склонять к побегу. Но один из них выдал его, и Дюбюкуа снова очутился в одиночке, где, вероятно, и сгнил бы, если бы ему не пришла в голову удачная мысль разыграть роль умирающего. Испуганное тюремное начальство вновь перевело его в общие комнаты. Дюбюкуа сразу возвратился к прежнему плану, однако теперь он не спешил, решив тщательно подготовиться к побегу. Под различными предлогами переходя из камеры в камеру, он изучал их обстановку и приобретал знакомства среди заключенных.
Наконец он обосновался в одной комнате с ирландцем и немцем. Немец пришелся ему по душе, но ирландец положительно не нравился. Чтобы избавиться от него, Дюбюкуа так перессорил его с немцем, что дело между ними дошло до дуэли. Оружием были избраны ножницы, разломанные и прикрепленные к двум поленьям. Готовые к бою, противники встали в позицию, как вдруг Дюбюкуа поднял такой страшный крик, что прибежали тюремщики и развели дуэлянтов.
Дюбюкуа пожаловался на ирландца, называя его бешеным сумасбродом и требуя удалить его из комнаты. Надо сказать, что две недели назад он сообщил майору свое намерение обратить немца-еретика в истинную веру, поэтому тюремщики поспешно переселили ирландского буяна, мешающего душеспасительным беседам. Оказавшись с немцем с глазу на глаз, Дюбюкуа открыл ему свое намерение бежать и нашел в бароне Пекене (так звали немца) преданного помощника.
Сообща им удалось проломить отверстие на месте окна, заделанного в этой комнате по приказу предусмотрительного Бернавиля. Но барон неосторожно поделился планами побега с соседями на верхних и нижних этажах, с которыми он имел обыкновение разговаривать через каминную трубу. Среди них вновь оказался предатель, однако Дюбюкуа избежал наказания, объявив, что немец склонен к галлюцинациям. Все же их перевели в другую башню.
Здесь оба товарища прежде всего вынули из печи железные скобы, а из досок кровати устроили подмостки, на которых они терпеливо пробивали стену этими скобами, а также гвоздями, обломками ножей и какими-то медными дощечками, которыми Дюбюкуа запасся, когда кочевал из комнаты в комнату. Лестницу они изготовили из веревочек, снимаемых ими с горлышек бутылок, и из кусочков одежды; кроме того Дюбюкуа пользовался всякой возможностью отрезать полоску от своей простыни, прятал салфетки, щипал корпию из старого белья и т. д. Лестница хранилась друзьями под плитой, вынутой ими из пола ценой величайших усилий.
Работа продвигалась вперед, но однажды вечером пол в их комнате внезапно провалился, и Дюбюкуа с товарищем упали на жившего этажом ниже слабоумного старика, который при этом рехнулся окончательно. Само падение кончилось для них благополучно, но они были переведены в другую комнату, где все пришлось начинать сначала.
Дюбюкуа хладнокровно отнесся к этой неудаче, барон же охладел к побегам и сделался таким равнодушным и бездеятельным, что Дюбюкуа искренне посоветовал ему отречься от протестантства, чтобы хотя бы таким образом обрести свободу. Барон послушался совета, но свободы не получил. Это привело его в такую ярость, что сострадательный Дюбюкуа дал ему другой совет: пригрозить тюремному начальству самоубийством. Достойный барон той же ночью вскрыл себе вены и разбудил своего друга. Дюбюкуа пришел в ужас, упал с кровати на пол, перепачкался в крови барона, потом добрался до двери и принялся изо всех сил стучать и звать на помощь. Прошло не менее получаса, прежде чем тюремщики открыли дверь, но барона тем не менее удалось спасти.
Дюбюкуа перевели в верхнюю комнату той же башни. Здесь он вызвался обратить в католичество гугенота Гранвиля, который был известен между заключенными как смельчак и отличный товарищ. На самом же деле Дюбюкуа рассчитывал на его содействие при подготовке побега, и на этот раз ему посчастливилось.
Бернавиль перевел Дюбюкуа в комнату Гранвиля, вместе с которым содержался еще один бывший товарищ Дюбюкуа; через несколько дней к ним присоединился четвертый заключенный, также из тех, кто участвовал в первой неудавшейся попытке побега. Дюбюкуа потребовал, чтобы все они поклялись на Евангелии (то есть на сорванных с бутылок клочках бумаги, на которых сажей при помощи соломинок были нацарапаны какие-то евангельские изречения) сохранять тайну того, что они сейчас увидят и услышат. После того как клятва были принесена, он показал им маленькую пилу, которую хранил как величайшую драгоценность, скрывая ее даже от барона.
Работа дружно закипела. Решетка была перепилена, веревки для лестницы свиты; наконец был назначен и долгожданный день, вернее, ночь побега. Правда, возникли некоторые разногласия при обсуждении вопроса о том, что следует делать, когда беглецы доберутся до рва, но в итоге было принято компромиссное решение, что каждый будет действовать по своему усмотрению.
Дюбюкуа выпросил у товарищей позволения спуститься первым, чтобы одному ответить за побег в случае неудачи. Он благополучно достиг земли, однако был вынужден простоять под окном около двух часов, так как никто из его товарищей не показывался. Задержка произошла оттого, что толстый Гранвиль никак не мог пролезть в отверстие и умолял товарищей бросить его на произвол судьбы; те не хотели оставить его, и между ними завязалась великодушная борьба. Наконец Гранвиль убедил их воспользоваться случаем получить свободу.
Дюбюкуа и двое других узников добрались до рва, охраняемого часовым. Улучив мгновение, когда часовой отвернулся и пошел в другую сторону, Дюбюкуа скатился в ров и проворно выкарабкался на противоположную сторону; однако его товарищи колебались последовать за ним. Дюбюкуа влез по водосточной трубе на крышу какого-то здания, примыкающего к Сен-Антуанской улице, и очутился среди мясных рядов. Соскакивая на землю, он задел за висящий железный крюк и поранил себе руку. В это время со стороны Бастилии раздались выстрелы.
Неизвестно, что сталось с товарищами Дюбюкуа; вероятно, они хотели последовать за ним, но были замечены и убиты.
Дюбюкуа между тем скрылся у своих друзей, переоделся и в тот же день покинул Париж. На этот раз ему удалось благополучно достичь Швейцарии и наконец-то почувствовать себя свободным человеком.
Побег Дюбюкуа вызвал ответные меры начальства Бастилии по усилению охраны крепости и ужесточению содержания арестантов. Взбешенный комендант приказал срубить в саду все деревья, мешавшие часовым видеть подножия башен, запретил заключенным использование ножей и вилок и велел укрепить на окнах дополнительные решетки.
До нас дошел эпизод с попыткой подкупить одного из тюремщиков – Блэнвиньера. «Вот, сударь, кольцо, которое я вам дарю и которое прошу принять», – сказал ему Маттеоли. Видимо, это был алмаз, подаренный ему Людовиком XIV. Во втором случае он написал несколько слов на подкладке карманов своего камзола, который должны были почистить – эта затея также не удалась. Подлинность обеих историй засвидетельствована в тюремных отчетах.
От фр. consteller – усыпать, усеивать драгоценностями.
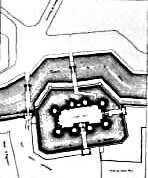
План Бастилии. 1390 год. Строительство крепости было завершено в 1383 году.

Известный средневековый историк-хронист Филипп де Коммин за рабочим столом. Мемуары Коммина – прекрасное документальное свидетельство по истории драматической борьбы Людовика XI с бургундским герцогом Карлом Смелым. Жертвами этой борьбы пали коннетабль Сен-Поль и граф Жан д'Арманьяк.

Бургундский герцог Карл Смелый – главный противник политики централизации Франции при Людовике XI. Автор фразы «Я так люблю королевство, что вместо одного короля хотел бы иметь шестерых».

Франциск I, «язычник, римлянин времен империи…». При нем начались избиения протестантов.

Средневековое изображение рыцарского турнира. На одном из таких турниров получил смертельную рану в глаз Генрих II – это сочли Божьей карой за процесс над протестантом Анн дю Буром.

Карл IX – король, вошедший в историю как организатор резни протестантов в Варфоломеевскую ночь.

План Парижа с крепостью Бастилией из муниципальной библиотеки города Кайен. Середина XVI века.

Бал при дворе. Средневековое изображение. Большим любителем подобных развлечений и пажей-миньонов, опустошавших французскую казну, был Генрих III, убитый фанатиком из Католической лиги Гизов.

Генрих IV. При нем Бастилия превратилась из крепости в государственную тюрьму и перестала быть страшилищем в глазах людей. Единственная драма, разыгравшаяся в ней в царствование Генриха IV, – казнь маршала Бирона.

Королева Мария Медичи. Правила как регентша при несовершеннолетнем сыне Людовике XIII. При ней в Бастилии сидел принц Конде и по обвинению в колдовстве была казнена Элеонора Галигай.

Кардинал Ришелье. Любил повторять, что следы чужой крови незаметны на его красной мантии. В его 18-летнее правление Бастилия и все тюрьмы Франции переполнились заключенными. Поводы к их аресту могли быть разными, но вина у этих людей была одна – все они когда-то перешли дорогу кардиналу.

Казнь через повешение на Гревской площади. Часто единственным выходом из каземата Бастилии была именно дорога на эшафот. Парижская толпа воспринимала казнь осужденных как увеселительное мероприятие и бурно реагировала на происходящее.

Людовик XIV. Стал королем в 5 лет. В его долгое правление Бастилия вступила в наиболее знаменитую свою эпоху. Громкие процессы над магами, отравителями и фальшивомонетчиками, слухи о Железной Маске окружили ее ореолом таинственности. При Людовике XIV ужесточение условий содержания заключенных шло рука об руку с возраставшим произволом власти. В Бастилию стало возможно попасть безо всякой вины, по одному королевскому капризу.

Жан Батист Кольбер. Образцовый бюрократ, одержимый порядком. Сын лавочника, ставший постоянным советником Людовика XIV в финансовых вопросах. Всеми средствами добивался падения могущественного суперинтенданта Фуке.

Д'Аржансон, начальник парижской полиции в 1697 – 1718 годах, при Людовике XIV. Умный и ироничный человек, руководивший расследованиями дел алхимиков и фальшивомонетчиков. При нем начались массовые аресты и заключения в Бастилию на основании тайных приказов короля.

Герцог де Ришелье. Его обожали три поколения женщин. Оказался в Бастилии из-за своей любвеобильности, освобожден благодаря необычному союзу двух высокопоставленных любовниц.

Людовик XV, из-за слабого здоровья прозванный «Возлюбленным», – сокровище, которого нация боялась лишиться. Царствовал 51 год. При нем произвол властей достиг апогея: в Бастилию заключали и за государственные преступления, и за самые мелкие проступки. Иезуиты усилили религиозные гонения, тюрьмы наполнились сектантами.
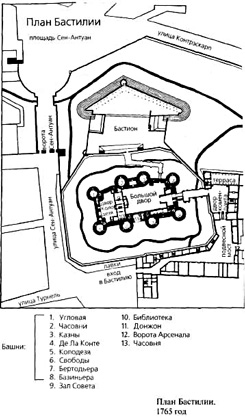
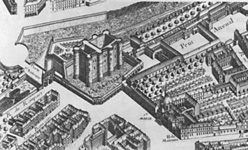
Бастилия в конце XVIII века. План Тюрго, деталь.

Фронтиспис «Истории Бастилии», изданной в Париже в 1844 году. Мрачная и неприступная – такой виделась Бастилия художникам эпохи романтизма в 1-й половине XIX века.

«Мнимый спаситель» Жан Анри Латюд. Самый знаменитый узник Бастилии в царствование Людовика XV. Хотел обеспечить себе благоволение королевской фаворитки маркизы де Помпадур, донеся о несуществующем заговоре против нее. В результате получил 35 лет заключения и пожизненную ненависть фаворитки.

Королева Мария Антуанетта. Ни о чем не подозревавшая жертва графа Калиостро и «дела об ожерелье». Казнена во время Великой французской революции.
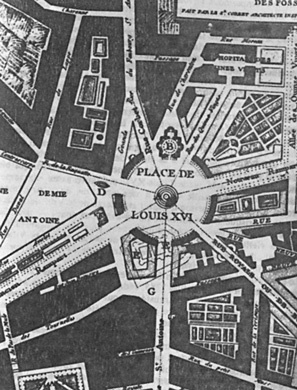
План Курбе. Содержание Бастилии обходилось дорого, и уже при Людовике XVI министр финансов Неккер предложил упразднить ее «ради экономии». В 1784 году архитектор Парижа Курбе представил официальный план открытия на месте крепости Площади Людовика XIV.

Кардинал де Роган. Другая жертва «дела об ожерелье королевы». Арестован и с позором препровожден в Бастилию прямо в архиерейском облачении. Оправдан после 9-месячного заключения, в результате чего стал весьма популярен в народе как жертва ненавистного двора.

Другие художники также занимались составлением проектов различных сооружений и памятников на месте Бастилии. План Площади Бастилии времен Наполеона Бонапарта, вероятно навеянный его азиатскими походами.

Взятие Бастилии. Когда загорелись казармы и дом коменданта и с крепости ударили пушки, вооруженный народ ринулся на последний решительный штурм. Гравюра времен Великой французской революции, сюжет которой сильно героизирует реальные события.

Гравюра эпохи романтизма, изображающая освобождение узников Бастилии. Благородный солдат революции освобождает древнего старца и ребенка в окружении корчащихся под пытками узников и истлевших скелетов. Сюжет весьма далек от реальных сцен штурма Бастилии.
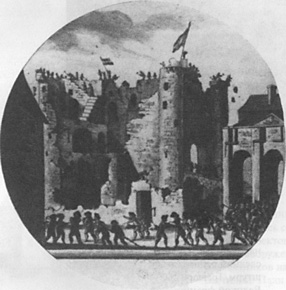
Разрушение Бастилии. Гравюра 1790 года.
Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел история
|
|
