Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Ваш комментарий о книге
Гижа А. Интерпретация и смысл. Структура понимания гуманитарного текста
III. РАЦИОНАЛИЗМ И СХОЛАСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Характерная черта современного человека – его рациональность. Не определяя пока саму рациональность, тем не менее, можно утверждать, принимая это положение в качестве постулата: современный человек рационален. Что значит – современный? Пояснив это, мы определеннее и конкретнее отнесемся и к его искомой характеристике. Обе они, таким образом, взаимосвязаны и в перспективе их предполагаемое единство, усиленное до прямой тождественности, выглядит началом философской темы связи времени человека и его мышления.
Наш вопрос звучит о современности, таково начало понимания времени человека.
Утверждение простого совпадения с календарным временем, безлично и равномерно текущей хронологией для понимания современности как специфически особенного содержания нам, по-видимому, мало что дает. Это буквальное прочтение слишком формально, оно не выделяет в общем содержании переживаемого настоящего, длящейся эпохи собственно «современное», не отличает его от «несовременного» или «несвоевременного». Одного пребывания в настоящем мало, термин «современность» излишен, если бы все сводилось к налично данному: все реально существующее и было бы современным.
Современный, по своей точной сути, – отвечающий на вызов времени, не прячущийся в прошлом, в воспоминаниях и не ускользающий в мечтаниях в будущее. Современное выражает существенное времени, оно – уместное, ко времени, следовательно, и зависящее, на первый взгляд, от него, т.е., в конечном итоге, суть врeменное. Но как сугубо временное оно нас не могло бы заинтересовать, ничего, кроме случайности и произвола там бы не оказалось. Однако современное не есть случайное, оно, как сказано, существенно. Существенное времени находится за его пределами, оно вечно и универсально-неизменно: во времени нет времени (временности). Современность, следовательно, также универсальна, она вне текущей хронологии.
Вызов времени определяется не внешними преходящими и изменчивыми факторами, он несет в себе постоянное ядро фактически одних и тех же требований к субъекту, оказывая на него, тем самым, постоянное экзистенциальное «давление». Коль скоро субъект воспринимает нечто как вызов, от которого он не вправе уклониться без потери своей основательности, мы характеризуем это нечто как собственную природу субъекта, которая хочет в нем открыться и реализоваться. Экзистенция времени (экзистенциальное время) выражает человечность, для субъекта пока скрытую.
Современность может быть понята как достижение полноты времени в каждое переживаемое и проживаемое мгновение, это удерживаемая и сосредоточенная бытийность.
Современное, таким образом, есть то, что преодолевает разорванность физического времени, его абстрактность, мнимость и беспредметность, преобразует отвлеченную физическую хронологию во время экзистенциальное и конкретное. Полнота времени (бытия) понимается как состояние субъекта, удерживающего свою цель в «сейчас». Полнота бытия обеспечивается постоянным присутствием цели как уже достигнутой, осознанием того, что все выполнено и совершено, поскольку нет иного времени, кроме момента настоящего. Цель и «сейчас» необходимо совпадают, так рождается реальное экзистенциальное время. Оно никуда не торопит субъекта, но требует от него полного осознания, которое само является самым действенным побудительным мотивом и стимулом.
Выпасть из своего времени – значит увлечься внешней, природной, вещной стороной бытия, стать частичным. Частичность восполняет принципиальную абстрактность обращением к другим частностям и так без конца – суммированием и увеличением себя она хочет достичь цельности существования.
Укорененность цели в «сейчас» означает отсутствие «расстояния» до нее, которое в физическом времени образует пустоту и дискретность пребывающего: ожидание достижения обусловливает неполноту имеющегося. Пока индивид ждет, он находится в нетерпении и не воспринимает должным образом окружающее, он в какой-то степени лихорадочен и, следовательно, до конца не объективен. То, что есть – для него недостаточно, цель еще не достигнута и бытие не обрело своего завершения.
Имея в виду это сущностное содержание термина «современный», следует так рассмотреть рациональное мышление, чтобы в нем также можно было выделить продуктивно-универсальную компоненту, отделив ее как от узко понятой рациональности, от исторически конкретной и частной формы ее воплощения, так и от своей внешней видимости, которая универсальна, но непродуктивна.
Если современное представлено универсальной вневременной совокупностью требований (их основная черта – требование к индивиду быть), то эта ситуация должна быть человеком осознана. Вне осознанности бытие человека не присутствует для него. Речь идет о человеке не вообще, а относящемся к европейской культуре (или культуре европейского типа). Он не может просто действовать, опираясь исключительно на традицию. Ему необходимо осмыслить свое положение в социуме и принять самостоятельное и ответственное решение по поводу мотивов, целей, условий предпринимаемой деятельности, сделать выбор. Выбор предполагает сомнение и колебание, субъект не уверен с самого начала, что ему стoит предпочесть.
Современность присуща западной традиции, именно европеец может быть или не быть современным. Но вот что характерно: современность есть, в конечном итоге, определенная выключенность из времени. Но восточные традиционные общества также осуществляют такую выключенность и, следовательно, вырабатывают собственную трактовку того, что значит быть.
3.2. Какого рода рациональность характеризует современную эпоху?
Рациональность есть мышление в своей стихии. Когда мышление происходит, оно рационально. Это свободное и определяемое только собой, т.е. самостоятельно выработанным (или принятым) основанием, которое в своей свободе оказывается не чем иным как пониманием. Насколько адекватно мышление определяет свою самостоятельность, настолько оно последовательно и основательно в формулировке и развертывании своих положений, в проясненности и отчетливости используемых понятий с непрерывно прослеживаемой логикой рассуждений, становящейся логикой разумных вопросов и ясных, по крайней мере, для автора, ответов.
Вся история рациональности, вся философия есть поиск человеком несомненной реальности, которая обладала бы качеством безусловной очевидности. Поскольку искомая очевидность должна быть пропущена через сознание, то последнее работает над собой, становясь самосознанием и открывая для себя все более глубокую и новую очевидность. Но достоверность (реальность) может быть дана и внешним образом, без всяких поисков и ей остается, в таком случае, только соответствовать. Последний случай мы не берем в рассмотрение, он – вне самостоятельной осознанности, он остается в чувственности.
Исторически рацио формируется с возникновением расчета. Однако не каждый расчет может быть вполне (т.е. осознанно) рационален. Например, первобытные охотники, загоняющие животное в заготовленную ловушку, действуют, несомненно, с расчетом, но эта расчетливость еще целиком из природного мира – стая волков также ведет преследование в оптимальном режиме, адаптируя общую программу преследования к условиям местности, времени года, характеру загоняемого животного. Все это не может быть записано в биокоде.
Для человека рациональность уходит, мало-помалу, с внешнего уровня упорядоченно-практических действий (это еще уровень своего рода природной рациональности) и начинает формироваться в области непредметной и не связанной прямо с вопросами непосредственного биологического выживания. Человеческая рациональность становится опосредованной и внешне может казаться не всегда понятной. Но это только потому, что она перестала быть только внешней и поэтому может выглядеть не рационально.
Подлинная рациональность аналитична (в смысле Лейбница). Начало человеческой рациональности лежит в уясняемой справедливости распределения – продуктов, деятельности, привилегий etc. Распределение вообще есть область рацио, в материальном мире его основой является, как сказано, справедливость, а в идеальном, когда происходит распределение знаков и символов, основой является логичность.
Логичность выступает своего рода формой справедливости. Это провозвестие того, что справедливым будет утверждение о подчиненности физического времени экзистенциальному как абстрактного конкретному. Справедливость здесь становится синонимом истинности. Она есть такой изначальный и непререкаемый фактор, апелляция к которому способна поколебать любое человеческое установление. Нечто может быть истинным, правильным, необходимым – но представляться несправедливым и это заставит усомниться в его декларируемой истинности и необходимости. Справедливость в высшей степени тавтологична, адекватна и соответственна: за заслуги или нарушения установленных норм следует соответственное воздаяние (во всяком случае, должно следовать).
Земным, посюсторонним носителем справедливости, как она понимается самим существующим индивидом, исходя из его собственных представлений, и которой он способен дать самостоятельную оценку, является торговля. Именно торговле, процессу эквивалентного обмена товаров и услуг присущ тот плодотворный тип расчетливости, на базе которого возникнет и будет функционировать самоопределяющееся мышление. Эквивалентный обмен рождает понятие равного, равенство (совпадение, единство) и есть собственная мера (условие) мышления. Субъект остается при этом в рамках тавтологии, перераспределения наличного материала и это является кардинальным условием его устойчивости и силы.
Почему так? В перераспределении субъект способен стать созерцающим и отстраненным, самодостаточным, по отношению к которому творчески-деятельное отношение выглядит, в целом, подчиненным, рождая ощущение недостаточности имеющегося. Созерцающий индивид уподобляется всей бесконечной Природе, ни в чем внешнем не нуждающейся для своего функционирования .
У патриархального человека, живущего в устоявшемся укладе, расчет отсутствует. Он живет циклично, по традиционной схеме, повторяя принятые устойчивые модели поведения и реакции на внешние обстоятельства, которые также повторяются. Такой человек не рационален, он еще не субъект деятельности, но он и не иррационален. Он вообще пока не входит в пространство мысли. Он находится вне собственно мышления как процесса незавершаемого понимания, живя по привитым социальным и традиционалистским инстинктам. Заботы его повседневны и обыденны, он – в круге фиксированных обязанностей и полностью ими определен. Рациональность его (мышление) проявляется в акте тотального самоустранения , веры и необсуждаемого принятия собственной обусловленности кругом хозяйственно-воспитательных забот. Ему все известно и понятно, его рациональность завершена и пройдена, мир его полностью предсказуем и объясним.
Именно к такой абсолютной ясности стремится рациональное познание, конструируя замкнутые объяснительные циклы. Одновременно и сама рациональность есть такая непрерывная понимающая замкнутость.
Какого рода рациональность характеризует нынешнюю эпоху? Исчисляющая, рассчитывающая, техническая, программирующая. Что в ней общего с любой формой рацио? Стремление к эффективности, к достижению цели наиболее коротким путем. Стремление действовать эффективно, с минимальными затратами достигая максимальный результат, мы оцениваем как рациональность действия, выступающая здесь как экономность усилий. Где человек хочет строить свою деятельность результативно (на охоте, в процессе труда, в общении с богами etc) - он утверждает рациональность.
Но… она же его и подводит! Желание достичь цели непременно, осознание, что цель находится вне его обладания, влечет забвение самого себя, беспокойство и неустойчивость, внутреннюю неудовлетворенность и раздвоенность, укорененность в эмпирическом времени с постоянно ускользающим основанием.
Замкнутость понимающего мышления обусловливает уяснение некоторой целостности объясняемого содержания, которую само же и производит. Здесь может быть проведена аналогия с замкнутой линией на плоскости, очерчивающей контуры фигуры и создающей, тем самым, целостный геометрический объект.
Целостность предполагает самодостаточность данного содержания, не нуждающегося для своего объяснения и существования ни в чем ином, а это и есть самозамкнутость. Такой подход изначально тяготеет к универсальному охвату всего сущего, для чего требуется задать общие условия вообще любого понимания.
Формирующееся древнегреческое мышление начинает с утверждения понятия субстанции как первоосновы всего наблюдаемого и мыслимого многообразия, обладающей и функциями управления, и регуляции всего мирового круговорота. Вместе с тем, наличие субстанциального начала есть условие самог? последовательного мышления. Мировое движение происходит циклично, все сущее вовлечено в этот повторяющейся процесс и в силу утверждаемой связности становится рационально, само из себя, понятым. Эта философская рациональность совпадает с философской теологией, представлением о внеличностном Боге (у Аристотеля трактуемом как Ум) . Мышление обнаруживает условия своей реализации, своей действенности – оно должно быть связным и последовательным, хотя эти связность и последовательность не всегда могут лежать на легко видимой поверхности. Таким образом, самоопределяющееся мышление очерчивает плоскость своего развертывания в бесконечных пространствах Универсума, фиксируя границы человеческого бытия.
Но рациональность стремится не только к исчерпывающе ясному пониманию для себя, но и требует точной выговариваемости этого понимания. Данный принцип (требование доведения понимания до фиксации его в адекватном тексте) является аналогом естественнонаучного методологического принципа, связывающего продуктивность любого концептуально-теоретического построения с возможностью изложения (трактовки) его результатов на языке наблюдений, т.е. с их описанием в эмпирически фиксируемой действительности. Понятое и ясно высказанное (ясность не тождественна очевидности и внешне может быть сколь угодно сложной) определяет мир человеческого присутствия, а поскольку этот процесс реализуется в соответствующем языке, то язык, в конечном счете, формирует онтологию нашего мира, само бытие.
По известному определению М. Хайдеггера «язык есть дом бытия». За его пределами, в невообразимой безбрежности истинствует не-сущее, которое не поддается ни объяснению, ни пониманию или представлению. Все эти способы уяснения существуют в сфере бытия, они просто существуют. Не существующее ускользает из всех ловушек бытия, не-сущее бесформенно, оно – никакое. Не-сущее присутствует, но не достигается пониманием. Оно невыразимо, поскольку присутствует вне языка. Не-сущее есть то, что ускользает от охвата существующими способами познания. Не-сущее, таким образом, в своей бесформенности, текучести и неопределенности свободно и наоборот – то, что поистине свободно, становится не-сущим.
Одна и другая истории – одно и то же, как бы философия ни абстрагировалась время от времени от практики последовательных рассуждений, от собственно рациональности. Философское преодоление рациональности происходит в обнаружении многообразия ее форм, и само оказывается рациональным.
Эффективность в широком смысле (экономность, минимум энергетических затрат) существует и на уровне физической формы движения. В теоретической механике и оптике (прослеживается оптико-механическая аналогия) сформулирован принцип наименьшего действия. Согласно ему, реальное движение системы между двумя ее состояниями отличается тем, что действие (определенный физический параметр) при этом экстремально (минимально).
В греческом неоплатонизме мы встречаем разработанную иерархию космических состояний Ума, высшую ступень в которой занимает именно созерцающий Ум.
Самоустранение здесь выполняется стихийно и неосознанно, индивид традиционной культуры еще не открыл себя и, по большому счету, ему не от чего отстраняться. Но внешне его поведение выглядит именно как устранение своей личности.
Спиноза говорит: «Бог…- первая причина всех вещей, а также причина самого себя – познается из самого себя». Предположить нечто, а потом удостовериться в этом, есть, во-первых, акт веры, а во-вторых, действие рационализма: в своем существе вера и разум оказываются тождественны.
3.3. Необходимость не-сущего. Объективация. Схоластичность. Вопрос из Ничто: теневая диалектика. Диалектика. Свобода. Повседневность
Внутреннее стремление рациональности к универсальному охвату всего, что может быть названо и помыслено, заставляет ее высказываться и о не-сущем, хотя бы и в форме отрицательных суждений. Если же дело доходит до попыток высказать все же нечто утвердительное, то здесь воцаряется мнимая содержательность и требуется осмотрительность, чтобы не принять ее за достигнутое знание.
Понимающая самозамкнутость и целостность рациональности есть способ реализации изначальной объективации, которую будем понимать как принцип формы, как источник порождения форм, воплощающих индивидуальную целостность. Рацио предполагает объективацию рассматриваемого содержания, это является условием его полного понимания. Объективация как способ реализации понимания имеет два аспекта:
- объективация как опредмеченность, материально-внешняя или понятийно-абстрактная;
- объективация как объективность рассмотрения.
В первом случае происходит процесс формализации и возникает понятие дистанции, отдаления, размежевания субъекта и предмета рассмотрения. Дистанция, в свою очередь, оборачивается двумя сторонами – позитивной, освобождающей и негативной, захватывающей. Такие свойства придает дистанции непосредственно субъект, сам являющейся, таким образом, источником своего реального освобождения или закабаления.
Изначальная объективация (кантовские априорные формы познания) говорит о связности и целостности некоторого содержания, но содержание самого этого принципа не может быть объективировано, формализовано с более общих позиций.
Рацио полностью понимает то, что само и полагает, предполагает, внося в действительность идеальные типы – концепты, а затем вычитывая их из природы, тем самым как бы подтверждая, «доказывая» их объективность. В силу сущностной замкнутости рациональное мышление способно осуществлять формализацию игровым, множественным образом, но увлекается игрой и начинает зачастую относиться к ней чрезмерно серьезно. Оно заигрывается и перестает видеть условия собственной результативности, становясь схоластическим, ослепленным формальной внешней правильностью.
Рациональность понимает, таким образом, саму себя, осуществляя самопознание, и его высшей формой является самосознание, не имеющее вне себя никакого предмета. Все внешние, как ему представляется, предметы и процессы получают рационализированную форму, дающую возможность понимания. Познание, осуществляемое рационально, есть всегда самопознание. Гераклитовский бег в разные стороны кроме смыслового раскрытия вещи показывает также и способ ее первичного обнаружения. Этот тезис можно усилить, говоря о познании и знании вообще: их сущность такова, что она осуществляется в виде самопознания, знания условий человеческого бытия. В случае с рацио этот факт самоотражаемости виден наиболее отчетливо. Действительно, читая, например, статью, субъект наиболее полно осознает ту часть ее содержания (особенно неформализуемого), которую он, в общем, знает, но неотчетливо, не до конца продуманно. Автор проводит понимание последовательно, развертывая суждение, читающий следует за ним, но он (читатель) уже должен фиксировать нить рассуждений, понимать, или, по крайней мере, догадываться, за чем и в каком направлении следовать. В противном случае он может сойти с авторского пути и увлечься вычитыванием иных смыслов, преимущественно собственного изготовления. Автор поднимает опыт читающего на бoльшую высоту (вместе с обязательным встречным усилием), придает ему связность, цельность, законченность, иными словами – большую истинность.
Последовательное рациональное суждение не может избежать встречи с не-сущим, если только не изменит собственному принципу беспристрастности и стремлению к окончательной и безусловной проясненности. В своем универсальном охвате сущего рацио с самого начала отталкивается от его противоположности, от не-сущего как такой стороны бытия, о которой невозможно составить исчерпывающее представление. Рацио получает вызов бытия и попадает в неразрешимую (с его стандартных рассудочных и здравых позиций) ситуацию, вынуждающую его, в конце концов, уяснить собственную обусловленность и границы. Попытка уйти от такого самоосознания простым отказом принимать во внимание не-сущее очень быстро приведет к явной шаткости и произвольности рациональных построений. Бытие заставляет отвечать на свой вызов, посылая его раз за разом – до тех пор, пока он не будет принят и отработан должным образом либо пока постоянный отказ не переведет индивида в разряд мнимых величин и жизнь потеряет к нему всякий интерес. Свобода действия, слова и мышления как раз и заключается в том, что мышление, как ведущая сторона этой тройственности человека, принимает на себя неслышно звучащий вопрос из Ничто.
Не-сущее, при всей своей невыразимости, обладает, тем не менее, онтообразующим качеством присутствия: оно, как сказано, бесформенно, текуче и, добавим, бессодержательно, не поддается прямому объяснению. Все эти характеристики вполне рациональны, понятны и выражают своего рода теневую диалектику, вводящей в рассмотрение наряду с общепринятыми диалектическими парами категорий (форма/содержание etc) их теневые (и неотъемлемые) дополнения – форма/бесформенное, содержание/бессодержательность etc .
Многократно высказанное в истории философии положение о диалектическом тождестве и, после его окончательного гегелевского анализа, ставшее, фактически, общепринятым – именно в силу своей привычности понимается все хуже. Более того, несложно догадаться, что оно вообще никогда, в силу предметной неисчерпаемости, и не понималось, за исключением самих авторов – не тех, кто повторял, а тех, кто особенным образом формулировал. Диалектический метод познания (понимания), понятый чрезмерно буквально, не в собственной буквальности, внес много путаницы, превратившись в свою противоположность. Этот метод стал успешно и систематически приводить к устойчивому заблуждению, поскольку претендовал на достижение окончательной истины, поскольку подал себя именно как метод. Неполная, прямая диалектика сама себя уничтожает и дискредитирует; в нее как бы встроено внутреннее устройство уничтожения, ведущее к распаду любого анализируемого содержания – если ее использование не задействует ее до конца. Она, как Протей, ускользает, поскольку в ней определена и сохраняется в неприкосновенности свобода мыслящего сознания.
Диалектика была фетишизирована, как только это имя закрепилось в общественном сознании, и превратилась в языческий ритуал заклинаний, вызывающий дух истины.
Данный метод, однако, есть метод лишь до известной степени и не может применяться механически инструктивно, независимо от использующего его субъекта. Это не некая философская методика, обладающая собственным содержанием. Собственного содержания в диалектических формулах нет, они содержательно пусты. Такая распредмеченность ведет к правильному их уяснению. Принцип «совпадения противоположностей», пожелание мыслить «в единстве противоположностей» - все это подводит к самoй границе рационального понимания, поскольку здесь выражается требование преодоления различий, вне которых рационализм невозможен. Поэтому такие требования легко трансформируются в пустые пожелания, в результате чего пресловутое «единство» трактуется вполне обыденно, без всякой диалектики, в лучшем случае как взаимодополнение частей. Так, в условиях советской идеологической традиции, автор, пишущий на философскую тему, как правило, проводил ритуал философского заклинания, призывая в помощь (явно или неявно) вечно живой дух всесильного учения марксизма-ленинизма для формулировки своих противоречивых диалектических положений, после чего дальнейшее изложение нередко представляло более или менее тривиальное рассуждение. При этом возникал феномен схоластической диалектики, один из вариантов новой, уже не средневековой, а вполне современной схоластики – крайне формализованного, с выработанным безличным псевдонаучным языком, идеологически ориентированным способом мышления общих понятий, фундаментальных закономерностей и тем. Вместе с тем, это, по своей сути, именно средневековое мышление, только центрированное уже не в трансцендентном Боге, а в его посюсторонних политико-государственных заменителях. Характерно это изменение акцентов: подлинность заменяется муляжами и по мере омассовления культуры, снятия внешних социальных иерархических перегородок, апелляции к свободе и равенству мы наблюдаем в духовной сфере рост имитаций, заменителей, переориентаций, причем так, что реальное подразумеваемое содержание оказывается прямо противоположным собственно культуре и, следовательно, эту подлинную противоположность насаждающую.
Право на существование имеет диалектика, взятая не как абстрактный и формально неизменный (по структуре) метод, предписывающий совершать некую общую последовательность шагов в разрешении любой проблемы, но только как результативный процесс рационального самораскрытия интуитивно присутствующего понимания. Научить кого-либо «диалектически» мыслить, если субъект не имеет опыта осознания собственного интуитивного знания диалектика не в состоянии, да это совершенно и не ее задача.
Диалектическая формула не только не дает окончательного и исчерпывающего понимания, но сама по себе, вне активных встречных трансцендирующих усилий субъекта и не подводит к нему. Она задает, в лучшем случае, предоснову раскрытия сущего. Далеко не достаточно дать так называемую диалектическую формулировку чего-либо, суть как раз в том, чтобы грамотно раскрыть ее и выйти за пределы простого утверждения о «совпадении» и «борьбе» противоположностей.
Присутствие не-сущего мы не можем игнорировать, поскольку в противном случае субъект лишается слишком многого, если не вообще всего – онтологической укорененности свободы, которая в этом случае есть не произвол и слепое хотение, а действительное условие и возможность реализации его собственной природы. Отказываясь от свободы, субъект теряет себя, отдаваясь во власть отчужденных внешних структур – государственных, общественных, производственных, семейных etc. Внешнее здесь не означает обязательно пространственно иное, внешними могут быть и собственные желания, мотивы действий и стремлений. Свободу будем понимать как исполнение своего предназначения и потому отстраниться от нее безнаказанно нельзя. Все вопросы по поводу сущности свободы – «от чего», «для чего» - должны адресоваться открытию себя предназначенному, что подразумевает последовательное и окончательное преодоление различных форм обусловленности. В конечном счете, оказывается, что исполнение предназначения и есть движение по пути все более полной свободы. И хотя свобода является последней и наиболее фундаментальной сущностью человеческого бытия, это не значит, что снятие обусловленности ведет к хаосу, прихотям и произволу. Собственно говоря, внешний произвол и хаос действительно могут наблюдаться, но это будет, скорее, неадекватной трактовкой. Полагать свободу, ее проявление следствием произвола, видеть в ней исключительно самовольство способно только сознание закрытое и несвободное, поскольку произвол есть единственная форма его искаженного знания свободы. Личность, реализуя свободу, не становится аморальной, поскольку аморализм – та же зависимость от внешних усвоенных канонов, только с обратным знаком. Личность становится подлинно этической, ее этос полностью соответствует требованиям бытия. Слабый дух отказывается от дара свободы, это его последние свободные высказывание и действие, направленные к самоуничтожению. Свобода требует хотя и многого, но посильного для человека: в первую очередь, реального признания не-сущего, включения в свою жизнь принципов бесформенности, текучести и неопределенности. Рациональность субъекта при этом подвергается тяжелому испытанию, она вынуждена сама себя (свободно!) ограничивать. В процессе такого смиряющего самоограничения складываются условия для достижения подлинного знания, подлинного не только в плане соответствия, но и необходимости.
Самоограничение рациональности является одновременно ее преодолением, но не в смысле утверждения некой иррациональности и алогичности как якобы более высоких и адекватных способов понимания. Субъект остается в высшей степени рационально думающим, действующим и формулирующим свою осознанность.
Но это – в идеале или в теории. Реально же субъект избегает свободы и ответственности и потому стремится оттеснить беспокоящую его мысль о не-сущем на периферию сознания, не давая себе труда задуматься самостоятельно.
В обычном, повседневном толковании не-сущее упрощается до не существующего, которое выступает либо как не существенное, ничтожное, не действующее, которое «что есть, что нет», слабое, заметно себя никак не проявляющее, то, чем можно пренебречь, второстепенное, либо как отсутствующее по какой-либо причине в данный момент.
Не существующее представляет собой очень бедную и, в целом, безжизненную абстракцию от не-сущего, сдвигающую фокус рассмотрения на пустую видимость и предполагающую вполне закономерное пренебрежение со стороны субъекта этой никчемностью. Этот трюк рациональность проделывает в целях самосохранения, отдаляя неприятное понимание факта своей фундаментальной неполноты в процессе познания, своей опоры в ином, своей не самодостаточности. Рациональное мышление при всей своей декларативной приверженности к истине достаточно капризно и избирательно – как только задача выходит за узкие рамки чисто научного и отстраненного рассмотрения природных процессов, оно любит «закрывать глаза».
Изгнание не-сущего рациональностью сводит бытие к существующему, взятому с точки зрения существенности . Это означает тотальное расколдовывание мира, безоговорочное лишение его какой бы то ни было тайны, глубины и неизреченности. Все, что в мире «есть», может быть познано рано или поздно исчерпывающим образом – такова точка зрения рационального мышления, стремящегося полностью подчинить себе практику осознания. И эта позиция реализуется после того, как само рацио разграничит сущее на то, что «есть» и то, чего «нет» - прежде всего, именно с точки зрения возможности полного познания этого выбранного «есть». Короче говоря, рацио само назначает правила игры и самозабвенно играет в нее с самим собой. Проигрыша в такой ситуации не бывает. Однако может возникнуть ситуация досадного отсутствия практического результата.
Основа рационального подхода – дифференциация, определенное разделение сущего с последующим рассмотрением выделенных частей в единстве. Все части должны сложиться в целостное и непротиворечивое описание выделенного фрагмента реальности. Выделение фрагмента уже подразумевает и определяет его внутреннюю структурированность, выступая аксиоматической ее основой. Разделение сущего наиболее общего рода, то, которое выражается в содержании категорий абстрактно- философского суждения, выявляет одну явную черту любой границы: она определяет не только то, что непосредственно ограничено, но и то, что остается по ту сторону границы. Иными словами, философское, или иное рациональное суждение всегда носит общий характер, говорит обо всем, хотя бы и не прямо.
Категориальное мышление остро осознает факт своей двойственности, тем более, что оно внешнее (за)граничное содержание определяет не формально – как просто все прочее, что не есть «это», а конкретно, как необходимое дополнительное звено к внутри-граничному содержанию. Граница, с одной стороны, необходима, поскольку дает определенность и устойчивость, фиксируя некую цельность содержания, то, что подлежит уяснению, а с другой – эта граница очень условна, вся исхожена контрабандными тропами внешних связей и, фактически, прозрачна для родственного содержания с обеих ее сторон. Вдобавок, граница сама по себе не фиксирована и представляет широкую переходную область с неопределенным статусом ничейной земли. А если, для полноты образа, добавим, что и в глубине категориальной территории не существует чисто этнического населения (т.е. содержания, однозначно соответствующего своему имени), и «инородная» часть не уступает по численности «местному» элементу, то вопрос с границей вообще зависает в воздухе. Она сама оказывается внешним фактором относительно разделяемого сущего.
Ни от «ничейной» территории, ни от безосновности граница рациональность избавиться не может. Сводя ничейность к нулю и однозначно разграничивая «свое» и «чужое», рациональный субъект превращается в рассудочный автомат, получает полную, но жесткую определенность и эта окостенелая жесткость вообще пресекает процесс мышления, прекращая взаимопереход содержательных различий. Здесь возможно одно и только одно понимание, соответствующее произвольной неподвижной определенности и оно не ставится под сомнение, поскольку ни с чем не сравнивается.
Если граница убирается вообще, то в наступившей неразберихе рационально осознавать просто нечего. Иногда этот вариант субъект представляет как состояние «расширения» своего сознания, поскольку оно, дескать, вмещает «всё». Может быть, так и есть, но с дополнением: об этом «всё» субъект ничего определенного не знает, поскольку лишил себя определенности изначально.
Цельность мысли требует преодоления двойственности категориального анализа & синтеза: мысля в абстрактных категориях (или подразумевая их) – форма и содержание, внешнее и внутреннее, возвышенное и низменное, доброе и злое etc, мы, мысля одно, тем самым предполагаем противоположное. Это «одно и противоположное» должно быть постигнуто, по Гегелю, как конкретное тождество, как третье, невысказываемое начало, переход, напряженное равновесие в категориальных парах. Это – высшая степень рациональности, при которой мысль, преодолевая свою жесткую определенность, тем не менее, способна себя не терять.
Для этого «третьего», преодолевающего категориальную соотносительность, нет имени, и рациональное мышление не может включить его содержание в привычную схему рассуждений. Рациональность себя исчерпывает, но способна осознать этот факт и потому удивительным образом сохраняется. Гегель, судя по всему, прекрасно понимал аспект конкретности рассуждений и фундаментальное значение для правильного мышления фактора неявной третьей стороны категориальных отношений, но полагал, что, все же, этот факт может быть адекватно передан в написанном тексте. Но как раз передача в законченном виде невозможна.
Рациональность формируется в ответе на вызов времени-бытия и современность легко сбивается на календарно-абстрактное, физическое время, вызов которого завуалирован. Форма ухода от ответа?
Это положение известно в теологии как ее апофатическая форма, в противоположность катафатической, утвердительной.
Которое не лежит где-то в готовом виде, а должно быть насколько найдено, настолько и создано.
Оценка существующего с точки зрения существенности означает, что мы чувственно воспринятое, предметное содержание дополняем моментом идеального, прямо включаем идеальное в наблюдаемую предметность, так, что иначе предметность не присутствует для человека. Человек в функции рациональности настроен на существенность.
3.4. Исчерпание рациональности. Неклассичность философии. Исчезновение вещи. Безымянность тождества. Границы формализма. Гегелевский абсолютный рационализм
Исчерпание рациональности означает отказ понятийно-категориальной формы мышления от программы обязательного достижения безусловного, полного и окончательного понимания окружающего мира, человека, истории – т.е. всего того многообразия сущего, чье содержание самостоятельно и не укладывается в некие формализованные рамки.
Рационально мышление, поднявшись от своей рассудочной формы с застывшими категориями до диалектически противоречивого, тем не менее, упорно тянет рассудочную неподвижность во все свои построения. Однако, начав расти в своем качестве, приведя категории в движение, рациональность закономерно подходит к самоотрицанию – это происходит тогда, когда в содержании категорий открывается нечто «чуждое», причем такое, что его нельзя просто отбросить. Внешне чужое и чуждое, диаметрально противоположное, антитезисное содержание связано глубочайшими внутренними связями с исходным полаганием тезиса, так, что само внешнее совпадает с внутренним.
Об этом Гегель говорил много и подробно, повторялось и после – но завершение рациональности схватывается самой ею только отчасти, а следовательно, не схватывается вовсе. Здесь нет постепенного приближения к полноте понимания, когда возможно ее почти достигнуть, в основных чертах, в самых существенных. Все существенно и один не сделанный шаг сводит на нет весь пройденный путь.
Категориальное содержание превышает свою номинацию: движение неотделимо от покоя, явление – от являющегося, причина – от следствия и т.д. Это превышение, с одной стороны, делает вообще возможным процесс мышления, а с другой – несет угрозу рациональности, поскольку при этом исчезает категориальная определенность. На смену последней приходит неопределенность.
Тот факт, что для понимания мы должны сначала мысленно разделить сущее на части, а потом заставить их устремиться в бесконечное движение друг к другу, подразумевает два обстоятельства. Во-первых, такое мышление по своей сути всегда лоскутно, мозаично, оно пытается конструировать картину непонятного общего из понятных частей этого общего. При этом получается более или менее механистическая композиция. Во-вторых, поскольку эти части движутся (говорят о самодвижении понятий), то они не равны себе, а это лишает их искомой понятности. Таким образом, полная и окончательная понятность существует только на уровне неподвижных рассудочных категорий, но они описывают исключительно формализованные и закрытые конечные системы, конструируемые самой же рациональностью. Желание обязательного достижения исчерпывающей ясности заставляет рациональное мышление постоянно оглядываться на, казалось бы, преодоленный этап голой рассудочности и, фактически, раз за разом воспроизводить ее во внешне-диалектических построениях, жертвуя, прежде всего, добросовестностью исследователя.
Мы поучили своеобразное расширение принципа дополнительности Бора на область понимания (осознания): чем точнее и полнее понимание, данное в категориально-понятийной форме, то тем дальше оно от реальной действительности, от сущего, тем большую абстракцию оно характеризует и наоборот, чем ближе мы к конкретному, тем расплывчатее становится его понятийное осознание.
Физики к подобной ситуации в своей науке отнеслись спокойно, зафиксировав факт невозможности точного классического описания квантовых систем в полном наборе пространственно-временных и импульсно-энергетических характеристик. Обычно философия претендует на роль дарителя способов и типов мышления естественным наукам и вообще для достижения адекватности любой формы знания. Но пока она не уяснит границу рациональности, она будет неявным образом обусловлена и ни о какой «свободе» мысли здесь не может идти речь, что бы об этом ни думали и ни воображали сами философы.
Здесь аналогия с физическим знанием более глубока, чем просто некоторая иллюстрация. Классическое – рассудочное – описание (понимание) обнаруживает в теоретическом естествознании свою относительную границу. Относительной ее можно назвать потому, что физика продолжает пользоваться классическим представлением пространства и времени в квантовой области, но делает это с пониманием того, реализует именно описание, которое, вообще говоря, может быть не единственным. Описание происходит на доступном языке эмпирических наблюдений, в терминах макропространства – времени, относящемуся к миру, условно говоря, человеческих масштабов. Квантовый объект не есть ни частица, ни волна, он есть нечто, что можно описать, в одних случаях как поведение частицы, в других – как волну. Что же он есть сам по себе? Физика так вопрос не ставит, в квантовой области утверждения об объективности описания, его всецелой адекватности стали более осторожными. Она разумно ограничивает вопрос о природе реального рамками отношений: говорят не о самом по себе существующем, но лишь в отношении к чему-то, к определенной ситуации. Физики понимают, какие вопросы в рамках их методологии и понятийно-терминологического аппарата являются корректными, допускающими ясный ответ, а какие принципиально однозначного ответа не имеют.
У философии более трудная задача. Ей необходимо отказаться от половинчатости трактовок своих же формул-высказываний. Границы рациональности, на которых она работает, абсолютны. Со своей «квантовой», запредельно-неклассической областью философия столкнулась сразу же в момент своего появления. Уже первые раннегреческие философские школы прекрасно осознают, можно сказать – внутренне ощущают, специфику абстрактных рассуждений о бытии. «Жизнь и смерть – одно и то же», «мысль и то, о чем она - одно» - это, по меньшей мере, звучит парадоксально, в явном противоречии со сложившейся логикой словоупотребления и обыденным пониманием. Философское мышление осознанно и последовательно отделяет себя от практики бытовых рассуждений.
Высказывать суждения из граничного положения, ощущая присутствие принципиально иного, не-сущего – исконная функция философии. Но она не может обойтись простой констатацией общей тождественности всего и ее история есть этапы рационального осознания характера этой абсолютно противоречивой тождественности. Философ ловит себя же на неясности: тождественность всего… Чего всего? Того, надо полагать, что находится в разделенном положении, но не остается в нем, а устремляется к единому смысловому центру, в котором все содержательные моменты должны совпасть. Что же толкает вещь к исчезновению, которое оборачивается высшим способом ее бытия? Причем происходит это не единоразовым образом, а многократно, соответственно актам понимания этой вещи индивидом. Высшее бытие вещи определяется как ее стремление к исчезновению, фактически - к смерти.
Философия почувствовала эту вывернутость рационально смыслового уяснения существующего, когда нечто полагает себя через противоположное, и в нем достигает своей подлинности и конкретности.
Вещь, тем не менее, остается в нашем предметно наглядном распоряжении, ее смерть и исчезновение происходят не в эмпирическом ракурсе, а в теоретически смысловом, понятийном, логическом. В рациональном теоретическом горизонте вещь растянута в бесконечную линию, в которой она и теряется. О топологии этой линии надо говорить отдельно, пока же ограничимся такой образностью.
К продуктивному исчезновению вещи толкает, прежде всего, ее внутренняя открытость, которую индивид должен воспринять собственной открытостью и раскрыть как таковую, а вместе с этим и продвинуться в практике самопознания. Вещная, предметно наглядная сторона бытия совпадает с логикой самораскрытия «я».
Свое граничное положение философ должен сознательно удерживать, преодолевая искушение провозгласить истину, самому в нее поверить и остановиться в познании. Одновременно, истинность его суждений должна выражаться в строгих формулировках. Философия стремится увидеть истинное обличье и это ей удается настолько, насколько истинно она разумеет саму истину. Достигается разумеемая истина.
Так она и вращается в круге истинного: двоякое вращение – последовательный бег по кругу в плоскости одной только формальной логики означает схоластику, умение же оказываться сразу во всех его бесчисленных точках возможных контекстов суть практика действительного мышления и эффективного действия.
Конкретное категориальное единство (тождество) всегда не завершено, оно не имеет имени, поскольку не имеет определенного содержания. Отсутствие определенного (т.е. замкнутого, о-от-граниченного) содержания, которое могло бы быть названо, относится, во-первых, к самой сути подлинно диалектической мысли и, во-вторых, составляет характерный признак не-сущего. Продуманное до конца рационально введенное понятие приводит к выявлению в собственной структуре не просто иного содержания, а вообще содержательной пустоты, которая и обусловливает действенность мысли, ее подвижность, глубину и плодотворность . Не-сущее с точки зрения познания, т.е. в самом процессе достижения реального знания, есть точка окончательной встречи взаимообусловленных различий, где и происходит их исчезновение друг в друге, погашение противоположных амплитуд, остающихся, вместе с тем, реальными. Различия при этом преодолевают (в познающем усилии субъекта) свою неподвижность и самотождественность, но это означает, что дистанция между ними уничтожается и для внешнего понимания (что соответствует позиции внешнего наблюдателя в релятивистской физике) все утверждение выглядит как самопротиворечивая декламация: «жизнь и смерть - одно и то же».
Если не-сущее снимает различия, которые рациональность выделяет в сущем, то оно неразрывно с сущим, является его неотъемлемым аспектом и только что рассмотренный процесс преодоления дистанции между различиями повторяется в усиленном виде, поскольку перед нами уже не ряд категориальных форм, имеющих универсальное применение – в философии, науке, искусстве, религии, обыденном сознании, а только две, имеющих, соответственно, одно различие.
Мы должны теперь заставить встретиться открыто само сущее и его иное, не-сущее, в человеческом эквиваленте - жизнь и смерть. Открыто – поскольку не хотим заранее считать не-сущее просто подчиненным моментом сущего, его своеобразной тенью, давая сущему преимущественное право на «существование», на законность его терминологического употребления. Такое право требует доказательности, а пока что именно не-сущее может претендовать на первенство, поскольку оказывается причиной и основой жизненности сущего, условием и возможностью его понимания, само, однако, от понимания ускользая.
Нельзя сказать, что мы при этом как-то оперируем не-сущим, включаем его, несмотря на выясненное отсутствие определенной содержательности, в рациональные построения. Это, скорее, просто следование в обозначенном направлении, последовательно снимающем всякие различия, стремление к достижению последнего фиксируемого (хотя бы только в названии ) рационального тождества. Мы продолжаем действовать, таким образом, формально и уже близки к последним границам этого формализма, на которых рациональное мышление обязано радикально измениться.
Итак, различия, выделенные в сущем, имеют свою общую основу, где происходит их совпадение и они перестают быть только различиями. Обретенная субъектом на этом этапе самопознания целостность мышления способна реализовать полноту знания, означающую достижение им новой формы существования. Прежняя, социально-личностная, привязывающая индивида к обществу, продуктам своего труда, творчества, стереотипам общественного сознания, оказывается преодоленной, снятой в точном гегелевском смысле. Она не исчезает окончательно, но статус ее понижается до простого и бездеятельного наличествования. Она перестает играть ведущую и самостоятельную роль, становясь полностью подчиненной новой целостности.
Для обычного, повседневного мира человеческого общения новая форма пуста, она не привязана ни к какому его аспекту. Новая форма теряет прежнюю жесткую социальную детерминацию и окончательно становится принципиально текучей. Это, собственно, уже и не форма, а потеря всякой определенной формы, подлинная бесформенность, личностная пустота, всецелая адекватность сущему.
Поскольку не-сущее обладает «признаком» присутствия, оно «есть», хотя и ускользает из любых конечных определений. Противоположность сущего и не-сущего, таким образом, не абсолютна, одно неявно присутствует в другом и общей основой, снимающей их различие, является собственно бытие. По Гегелю, бытие – наиболее бессодержательная категория, о которой мы не можем сказать ничего и потому она совпадает с ничто. Единство бытия и ничто дает становление, которое уже приводит к нечто. Гегель действует как абсолютный рационалист, для которого отсутствие выраженного в понятиях содержания эквивалентно его отсутствию вообще. Ничто он понимает именно как не существующее. Однако его явная, дескриптивная диалектика, основанная на ясно сформулированных понятиях, в значительной мере мистифицировала действительность вследствие игнорирования (ввиду предполагаемой незначительности?) ее «теневого» аспекта: парные категории не могут светиться друг в друге, если не признать наличие промежуточной стадии, где форма перестает быть формой, но еще не является содержанием. Это этап потери всякой определенности. Гегель фиксирует начало и конец категориального взаимопревращения и говорит, что происходит переход категориального содержания в «свое иное». Но чтобы обрести иное, нужно сначала отбросить свое, не потеряв при этом себя. Нужно перестать быть чем-то и стать ничем.
В этом месте рацио молчит. Это продуктивное молчание, его можно, по крайней мере, акцентировать, обозначить, дать как осмысленную паузу, необходимую остановку, ни в коем случае не подменяя его суетливым многословием всезнающего рассудка.
Гегелю, впрочем, упрек в мистификации может быть адресован менее всего – он продумывает любую ситуацию основательно и ясно формулирует свое понимание. «Теневую» сторону он подразумевает, но, как последовательный рационалист, ничего о ней не говорит, ибо в понятиях она невыразима. Мистифицируют понимание Гегеля его последователи и критики, усвоившие поверхностную канву диалектического мышления, но не имеющие внутреннего опыта переживания не рационализируемого «конкретного тождества».
Гегель реализовал свою систему знания в высшей степени последовательно и обусловлено, двигаясь от бессодержательного и абстрактного бытия к конкретной абсолютной идее, воплощающей в рациональной форме всю полноту знания. Последующее развитие теоретической мысли и историческая практика показали, тем не менее, весьма относительный характер этой полноты. Способ понимания Гегеля не был методом, вопреки установившейся трактовке его именно как диалектического метода. Это был его способ понимания, которым нельзя воспользоваться как ключом к любой тайне познания. Этот способ (как и другие) необходимо всякий раз достраивать, фактически – строить заново, при этом он неизбежно меняется. Поэтому просто повторять Гегеля или даже следовать за ним (или манипулировать, переставляя с ног на голову) означает удаляться от собственного понимания. Следовать Гегелю, конечно, можно, но – всегда в собственном варианте.
Для выявления «теневой», скрытой, неформализуемой диалектики пришлось двигаться от самог? мышления, его рассудочной формы, т.е. от собственно идеи к тому пункту, где рациональность в ее классическом варианте перестает работать. Оказывается, что это движение приходит к выявлению некой пустотности в понимающих структурах, которая не может быть устранена. Проявляется изначально запредельный, «квантовый», существенно неклассический характер философского рассуждения и знания. Квантовость здесь означает нарушение непрерывности понимания, которое не может быть «гладким», все время доказываемым, равномерно и окончательно проясняющим предмет рассмотрения.
Конечным пунктом, где падение рациональности в процессе уяснения несложно видеть буквально невооруженным глазом, является трактовка бытия. Для настоящего исследователя, стремящегося найти искомую границу и пределы рационального мышления, бытие стало конечным, граничным пунктом. Гегель, работавший в русле развертывания всех позитивных возможностей рациональности, движется от бытия к идее. Но различие задач определяет направление движения и исходную точку. Наша задача по установлению качественности мышления и гегелевский проект взаимодополняют друг друга. Бытие мы рассматриваем как наиболее пустотное и бессодержательное, как понятие, максимально богатое негативностью. Диалектическое снятие различий завершается на бытии и ничто. Нет более общей и еще более пустой категории, которая могла бы принять бытие и ничто как свои аспекты. Но это означает, что между ними нет различий, и такое бытие есть подлинно ничто, что терминологически повторяет Гегеля.
Однако суть дела в том, что это всецело позитивная негативность, а не просто отрицательное, просто несуществующее и ничего не значащее, как это трактовала классическая рациональность, не знающая собственной природы и ограниченности. Негативное и отрицательное не остается более только негативным и отрицательным – это и есть продолжение и завершение рациональности, когда последняя открывает свое основание и распространяет свое вuдение на доселе неприкасаемые святыни разума. Наиболее значимой и безусловной ценностью для разума является истина. Теперь и ее коснулось сомнение, пришел ее черед поставить себя под знак вопроса .
Мы проследили формирование дивергентной цепочки понятий, внутренне распадающейся на две расходящиеся составляющие, имеющие, вместе с тем, точку схождения, общий исток:
содержательное расхождение
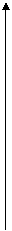 необходимое необходимое
значимое
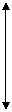 существенное существенное
 существующее существующее
сущее
 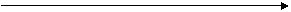 …ничто-бытие-ничто-бытие упрощение …ничто-бытие-ничто-бытие упрощение
не-сущее
не существующее
случайное
незначительное
не существенное
На рисунке верхняя часть фиксирует понятийное движение явной, дескриптивной диалектики с ее отчетливыми рациональными определениями и безусловным толкованием-предпочтением истины. Нижняя часть характеризует «теневую» диалектику. Чем дальше от общего истока, тем упрощеннее понимание, приобретающее, одновременно, бoльшую ясность.
Данный рисунок можно уточнить: дивергенция верхней и нижней частей происходит не линейно, а по степенному закону, так, что вертикальная линия, образованная критерием значительное-незначительное, оказывается пределом абсолютного и бесконечного расхождения:
+ ?
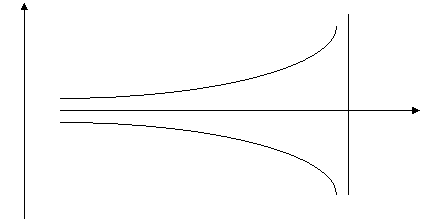
- ?
Бoльшая определенность понимания - классическая ясность – достигается постоянным сдвигом нерационализируемой стороны бытия в сторону все большей незначительности, на периферию сознания, поскольку по критериям самой рациональности незначительное не заслуживает того, чтобы это содержание принимали во внимание. Для рацио оно не существует, поскольку оценивается как не существенное. Рациональность в ее классическом варианте, преследующем цель полного и абсолютного понимания, избирательна, а далеко не универсальна. Действуя путем выбора того, что принять за существенное, опираясь на различия, единство же их только декларируя, рациональное мышление хочет получить все знание и утверждает монополию на адекватность и завершенность познания. Последовательное стремление к исчерпывающему пониманию в точных понятиях ведет к его вырождению и увеличению общего заблуждения. Ясность в отдельных моментах сопровождается все более глубокими ошибками в общем.
Чем дальше развивается рациональное мышление, реализуя свою экспансию в необъективируемые сферы действительности, чем более оно дробит единое бытие на категориально выраженные фрагменты, тем меньше подлинного понимания. Экспансия рационального познания, его тотальность обозначают движение к хаосу. Здесь проявляется феномен схоластки в виде терминологической увлеченности, в игре в конструирование нежизнеспособных терминов, происходит погружение в мир чисто иллюзорных, ни о чем не говорящих форм.
Не правда ли, это положение напоминает греческий атомизм Демокрита, согласно которому существуют лишь атомы и пустота, причем свои атомы он называл также идеями (ideai). Идеи и пустота конструируют человеческий осмысленный космос. Мы обнаружили фактор пустоты не в виде отдельной реальности, наряду с предметностью (идеальной или материальной), а в самой идее, в понятии.
Мы получаем здесь остаточный формализм, оперирующий только именами. Эта рассудочность существовала в начале практики рациональных суждений, она же ее и закрывает.
Это не означает, что мы должны повторять Ницше и переоценивать истину в пользу заблуждения – он уже провел эту отрезвляющую работу. Требуется более тонкое проникновение в существо истины и ее противоположности, с тем, чтобы уяснить их соотношение не с точки зрения безусловного преимущества одной стороны, взятой в изоляции от другой, но в плане их конкретной взаимообусловленности. Причем подлинная конкретность, следует учитывать, сама по себе существует в совпадении с абстракцией.
3.5. Завершение понимания, его трансформация
Чтобы сохранить себя, понимание не должно быть окончательно рациональным. Но в таком случае оно теряет свою всеобщность.
Вне классических рациональных категорий понимание не существует, поскольку при этом исчезла бы требуемая ясность, а следовательно, и собственно понимание. Понимание или рациональное мышление, или, что то же – просто мышление, могут завершиться достойно и тем самым не только сохраниться в некоем застывшем и окончательном виде для утилитарного использования, но получить реальный шанс на иную жизненность, уже без претензий на всеобщий охват сущего, с реальной возможностью для субъекта прийти к твердому и необходимому для него знанию и, все-таки, выполнить изначальное требование рациональности. Последнее нас убеждает, что потеря всеобщности не составляет принципиального препятствия в исполнении существа рационального мышления.
На этапе самотрансформации, расставаясь с требованием исчерпания сущего (даже потенциально, в гипотетическом бесконечном развитии), понимание открывает в себе неустранимый элемент непонимания и субъект не должен приходить от этого в замешательство.
Рассмотрев дополняющий - «теневой», бессодержательный, но необходимый аспект категорий, сделали ли мы диалектику более понятной? Менее склонной к мистификации действительности? Превращается ли она, наконец, в метод, который можно передать? – ведь в понятиях, их взаимопревращениях нет больше буквально никакого неучтенного содержания. Ответ на все эти вопросы ясен: конечно, нет. Наше «нет» выдержано до конца, мы вели речь о негативном моменте в познании, который никогда не был уравнен в правах с позитивностью, с утверждающими предметными суждениями, и на последнем этапе звучит также «нет». Все, что можно высказать по поводу диалектики предметно и наглядно, уже сделано Гегелем. Больше предметности нет, она исчерпана.
Наш анализ вышел в иную онтологическую плоскость, туда, где пустота не пустое и ничтожное ничто, а, напротив, акцентирована как подлинность. Проблема уяснения конкретного тождества остается, но мы перестаем конкретное разделять с абстрактным и эта рациональность лучше осознает себя, нежели во времена Гегеля.
Результат наш таков на данном этапе: видимость и пустота, которые диалектика имела перед собой и с которыми она тщетно пыталась справиться, изжить как чуждое и недопустимое, превратились в ее собственные и существенные моменты.
Это влечет переоценку специфики познавательной деятельности и прежде всего – принятие равнозначности всех проявлений сущего. Несомненный результат также заключается в лучшем понимании природы и функций философского рассуждения, перестающего увлекаться «обобщением» данных частных наук, фактически паразитируя при этом на них, и находящего свой, особенный уровень реализации, на котором возможно достижение строгого и твердого философского знания, а проще сказать – просто подлинного знания, а не знания условного, формализованного и частного. Это подлинное знание, вмещающее в себя все человеческие измерения, являющееся конкретно-потенциальным, характерно для самораскрывающейся формы рациональности. Такая форма начинает с неклассического и парадоксального варианта знания и через этап классически ясной проработки категорий возвращается вновь к началу, фактически – к универсальному мифу человеческого бытия.
Выполнение философией своих функций (без их подмены) постоянно удерживает момент преодоления принятых канонов мысли, усиления ее последовательности, основательности, незаинтересованной продуманности, снятия идейного фетишизма. Рациональное мышление призвано очертить границы человеческого мира таким образом, чтобы вскрыть разумную меру человеческого присутствия без тенденции к самоизоляции, успокоенности и претенциозности.
Поскольку философия осуществляет себя именно в пограничной области человеческого мира, ее суждения принципиально специфичны. Они должны быть построены, сформулированы исходя из характера места ее обитания как «ничейной» территории, где отсутствует сущностный формализм и исчезают различия, на которых держится любое ясное понимание. Работать в условиях исчезающего понимания и, все-таки, иметь возможность получать знание именно действительности, а не изобретенных конструкций разума, можно только отказавшись от недостижимой тотальной ясности. Это означает и отказ от успокаивающего самообмана рассудочного мышления. Расставшись с иллюзиями и привычными фетишами, рациональность ничего не теряет, но приобретает самопознание, способность подлинно понимать, становится трезвым, спокойным, внимательным, видящим.
Философия на своей ничейной земле всегда апеллировала к истине и дело совсем не в том, чтобы отказаться от этого стремления. Терминологически здесь ничего не изменилось, мы используем те же слова. Но необходимо учесть не только их содержательную сторону, но и бессодержательную, пустую, ту, которой ранее пренебрегали, и учесть не как мнимую и незначительную, а с точки зрения принципиальной равнозначности, без разделения на «существенное» и «не существенное».
Ясно, что сколь ни уточняй значение термина, сколь ни углубляйся в его содержание, все это не позволит приблизиться к его теневой , не формализуемой и не фиксируемой терминами стороне. Схоластическое нагромождение надуманной терминологии в любой области знания стремится исчерпать и заполнить ускользающий смысл, но это то же самое, что пытаться построить из счетного множества точек сплошную линию: рациональные понятия содержательно дискретны, смысл же континуален, непрерывен. У рационального субъекта присутствует вера в волшебную силу вводимого термина, он считает, что если нечто названо, то уже понято. Он без устали плодит новую терминологию и переиначивает прежнюю, порождая книжно – умозрительное знание, очень далеко отстоящее от действительности.
Формализм здесь всегда оказывается именно внешним моментом, он точно совпадает с самим собой и остается в истине, не нарушая, соответственно, истинность утверждений.
В кавычках это слово больше писать не будем, оно уже получило необходимую устойчивость употребления
3.6. Осуществление мышления
Чтобы рациональность осуществила процесс мышления (понимания) не в своем только представлении, а реально, чтобы можно было отождествить рациональное мышление и мышление как таковое, субъект производит окончательную и кардинальную переоценку ценностей: он должен лишить истину ее обособленного стояния. До сих пор истина категорически отмежевывалась от заблуждения, от ложности, считая эти характеристики своей чистой антитезой.
Такая позиция реальна только при условии ясного и исчерпывающего понимания действительности. Поскольку же, во-первых, само понятие действительности не дано самоочевидным образом и содержание его изменчиво и, во-вторых, категориальный анализ не в состоянии подняться до конкретного синтеза, преодолевающего различия – иначе исчезнет его основа, категориальная определенность, то незыблемость истины как указующего пункта конечного следования познания становится крайне сомнительной. Классическая рациональность превращает истину в свою марионетку, постоянно клянясь при этом ей в верности. Когда же и сам рациональный субъект верит в то, что он является поборником безусловной истины, он разрывает связь с мышлением.
Для того, чтобы категория истины могла выполнить свое предназначение – быть краеугольным камнем познания, определяя собой меру безусловности и тот уровень знания, который этой мере соответствует, она должна войти в реальную связь со своими антиподами – ложностью, видимостью, заблуждением. Даже, скорее, просто признать их, поскольку эти антиподы постоянно гостят в доме истины, являясь ее ближайшими родственниками. Ни ложность, ни видимость, ни заблуждение по отношению к бытию не носят абсолютного характера, они относительны, как и сама истина, или, если сказать иначе, они всегда конкретны.
В обычном понимании, как синоним ошибочности, ложность и видимость имеют отношение исключительно к формализованно-абстрактным системам, созданным на основе рассудочных категорий. Классическая рациональность всегда в той или иной степени рассудочна, поскольку ставит во главу угла изолированную истину. Она всегда так или иначе механистична и ее «движение категорий» может выглядеть достаточно изощренным, но это есть только внешний муляж живой действительности, одно из описаний.
Подлинное, а не повседневно и бездумно используемое значение терминов «ложность» и «видимость» заключается в том, что это – моменты не-истины в ее классическом рациональном варианте и как таковые тормозят и препятствуют не мышлению вообще в его стремлении к истине, а ставят преграду конечному категориальному мышлению, которое может только декларировать «конкретное тождество», но никогда исчерпывающе не развернет его в ясную и последовательную цепь понятий. Рассудочно- рациональное мышление считает эти препятствия чисто негативными факторами, полностью несовместимыми с условием своей реализации и требующими безусловного и безоговорочного устранения. Однако, останавливая малоосмысленный зачастую бег «быстрого разума», аспекты не-истины дают ему шанс – при внимательном к себе отношении – не отказываясь от своих приоритетов реализовать истинное понимание, перейти от мнимой самоуверенности к трезвому и взвешенному суждению.
Рациональность сама вышла на арену общественной мысли и утверждала себя как антитеза средневековой схоластике и гуманистическому всезнанию, как трезвость мышления, его доказательность, обоснованность и проверяемость. Теперь ей предстоит воспроизвести потерянное качество трезвости и освободиться от собственной накопленной схоластики.
Твердое знание действительности оказывается нерасторжимым с видимостью. Видимость получает статус подлинного и входит в сферу истинного. Истина прощается с высокомерным презрением и игнорированием своих же условий существования, она раскрывает себя и только тогда оживает. Раскрытие истины происходит в осуществлении ее простора и, чем активнее и последовательнее проводится снятие различий категориальных определенностей (разумеется, в гегелевском смысле), тем больше шириться и растет просвет, в котором субъект созерцает подлинную реальность. Такое спокойно-отстраненное и внимательное созерцание предоставляет субъекту возможность непосредственного прикосновения к действительности и ее адекватного описания.
Когда истина стоuт обособленно, она свертывает свой раскрывающий простор и субъект входит в контакт не с бытием, а со своим отражением, с разрозненными фрагментами собственного содержания. В этой ситуации он имеет дело с превращенными формами бытия, с продуктами его распада, с общим и прогрессирующим упрощением сущего, т.е. перед ним воочию (но эта очевидность для более высокого сознания) представлено его внутреннее состояние, характеризуемое малой связностью, неотчетливостью, хаотичностью и затемненностью своего содержания.
Истина держит бытие так, что степень ее обособленности и закрытости определяет фрагментарность и чужеродно-враждебную подачу и представление самого бытия. Такое бытие и субъект, ему соответствующий, несут в себе надлом и реальную возможность упадка. Собственно, фрагментарное бытие-субъект постоянно сопровождается той или иной формой декаданса.
Видимо любая переоценка полагает себя кардинальной и только на самоаттестацию здесь ориентироваться нельзя. Но мы считаем, что разного рода переоценки располагаются в ряд по степени радикальности и существует достижимый предел этого ряда. Действительный предел определяется критическим отношением к принимаемому безусловному началу, для него предметно-устойчивого нет ничего.
Дефис здесь выполняет роль соединительного союза «и» и можно говорить о единой сущности представления бытия и представляющего субъекта. Его описание есть он сам и, одновременно, окружающее его бытие.
3.7. Философская речь и терминология. Понимающая процедура. Пустые суждения как способ говорить о сущем
Высказанная возможность адекватного описания действительности, на первый взгляд, противоречит сказанному выше о характере рациональной терминологии. Но здесь речь идет не о лоскутно-мозаичном понимании, когда предполагается понятными частями воспроизвести и заполнить непонятное общее, а об описании, которое происходит при самом минимальном наборе специальных терминов, да и то носящих служебно- вспомогательный характер. Эта терминология абсолютно рационалистична, ясно определена и формализована, не претендует на расширение за установленные содержательно рамки, не несет уже в себе того понимания, которое субъект только стремится достичь.
Терминология, как правило, особенно в социально-гуманитарных дисциплинах, уводит в отвлеченность и строит свою, понятную действительность. Если мы не боимся оказаться в относительно непонятном мире, не возводим глухие защитные стены терминологических ухищрений, отгораживаясь от пугающей реальности, то вполне можем позволить себе без ущерба для нашей целостности сознания выходить за рамки разграничивающей классической рациональности, устраивающей привычный и обжитый мир повседневности. Для таких выходов потребуется иной язык, язык описания, поскольку субъект созерцает действительность в открывшейся истине. Поэтому здесь он должен перестать искать и придумывать скрытое «существенное», сущность наблюдаемого, а уметь правильно описывать увиденное. Так возвращается образность в язык истины, правильная речь опять становится образно-метафорической, а не чисто рассудочно-понятийной. Привлекаемый в рациональном мышлении образ служит для пояснения, используется в качестве аналогии, не имея буквального значения. Предметный референт в данном случае должен быть отмыслен. Рациональный же термин как раз точен, несет свою грань понимания, и их совокупность реализует, как предполагается, общее понимание любого фрагмента действительности. Образность в новых условиях мышления принимает на себя функцию точности термина, не становясь при этом наукоподобной.
Философская, понимающая речь говорит языком открывающейся действительности и потому построена на вполне обычных, обыденных словах. Но они используются особо, их значение и буквально, но, вместе с тем, и иносказательно. Разница с принятым знаковым употреблением заключается в том, что эти слова больше знаками не являются, ни на что иное, скрывающееся «за» ними, не указывают. Поэтому такая речь всегда абсолютно точна, если удается удержаться от вмешательства интерпретирующего рассудка, она совершенно буквальна, но эта буквальность не повседневного мира. Образ ничего за собой не скрывает, но он и не есть та сущность, которую он обозначает в привычном употреблении. Буквализм и иносказательность шествуют рука об руку и эта особая иносказательность последовательно уводит в ничто, в пустоту , потому нельзя сказать, что этот образ «на самом деле» означает. Он означает не-сущее, пользующееся этим новым способом использования старых слов для обозначения своего незримого, но настойчивого присутствия. Коль скоро мы захотели учесть в своих действиях и своем вuдении мира и себя фундаментальный аспект сущего, вне которого распадается вся целостная действительность, то должны уметь непротиворечиво совмещать пресловутое «одно и другое», но уже за пределами голого понятийного рационализма. В рамках классического рационализма это оказывается невозможным, все понимание здесь уходит в дурную бесконечность рассудочных определенностей. Вне стандартного понимания это реально, в новое и окончательное понимание вводит оборот «как если бы».
Применяемый образ буквален, его внешняя, зафиксированная форма свидетельствует именно о себе, но, тем не менее, «этим» не является. Применяемый образ иносказателен, т.к. он не есть «это», но ни на что иное не указывает, за ним не скрывается нечто, за ним – ничто. Это воистину пустой образ и его пустота дает возможность достичь твердого знания действительности. Такая возможность реализуется при избежании искушения интерпретации, в противном случае снова начинается – на ином материале – увлеченные, но бесцельные игры рацио с самим собой.
Эта понимающая процедура, знаменующая высвобождение из под власти замещающих рациональных структур, завершает процесс философского понимания, придавая ему окончательную полноту и целостность. Здесь понимание становится буквально-иносказательным и правильная речь, несущая твердое знание, всегда говорит не о том, о чем говорит, в ней постоянно присутствует смысловой сдвиг, внутреннее скольжение. Понимание здесь всегда идет вослед собственному опыту, вне своего опыта чужая правильная речь не принесет ничего.
Назовем буквально-иносказательную образность пустыми формами мышления. Они лишены недостатка отвлеченности рассудочных построений и способны заметить аспект не-сущего, однако их понимание не передается, если не уловлена их специфика. Им нельзя научить, но к ним можно показать дорогу, идти по которой приходится самостоятельно. Тем не менее, зная их, ими можно вполне определенно – рационально – воспользоваться. Рациональность не остается при этом где-то позади, отброшенной и «преодоленной», она вновь находит себя. Необходимо лишь держать в разумных рамках ее неуемную склонность к нагромождению сложной и запутывающей терминологии. Новая речь может выглядеть обычной разговорной, но оценивать ее так нельзя, она в этом случае будет представляться абсолютно бессмысленной . Здесь необходимо обращать внимание на авторство и прислушиваться к ней, если есть сила довериться.
Мы пришли к выводу: чтобы быть действенной, рациональность должна суметь опереться на пустоту, на видимость. Такая видимость рациональности («как если бы»!) в ее пустых формах есть, странным образом, тоже рациональность. Не является ли видимость, в таком случае, существенной и необходимой стороной любого типа рациональности? Не есть ли, более того, видимость ее высшая и подлинная форма? Учитывая, что видимость способна выступать в двух аспектах, быть негативной, формально-пустой, уводящей в сторону, скрывающей – все это требуется преодолеть с точки зрения классической рациональности, но это она несет в себе, а также позитивной – когда выясняется, что пустотность является не чем-то чуждым, а неотъемлемым собственным содержанием понимания.
Поскольку рациональность столь тесно связана с видимостью, то, т.к. она направлена на понимание, это означает, что понимание само себя строит, «за» ним ничего нет (или, что то же, присутствует ничто), оно самодостаточно и самоценно, оно само себя конституирует, формируя сферу понимающего внимания, сферу осмысленного человеческого опыта.
Понимающее сознание до достижения своей пустой формы является замкнутым: если субъект нечто, как ему кажется, понял, то он на этом останавливается. Не таково оно при достижении знания действительного, а не формального: полнота знания требует соответствующего сознания для своего включения, сознание должно обрести целостность, должно быть полностью проясненным и во всем отдающим отчет. Но искомая полнота и целостность не означают остановки, а выражают как раз подлинную адекватность сознания, избавление его от кривых зеркал саморефлексии. Целостность сознания позволяет субъекту обрести спокойствие по поводу отсутствия исчерпывающего понимания, и он отказывается от бесконечной гонки по кругу концептуально-терминологического объяснения актуальной бесконечности. Он переносит свою активность в сферу действия, в реальную практику как обыденного, так и экстраординарного опыта.
Как только философское рассуждение достигает уровня высказывания пустых форм и осмысленного оперирования ими, оно свою задачу завершения понимания в принципиальном отношении выполняет.
Формулировка пустых суждений и умение их распознавать - вот что составляет собственное дело философа и что лежит вне компетенции как естественных наук, так и социально-гуманитарных дисциплин. Так называемые философские проблемы какой бы то ни было науки есть ее внутренняя сфера деятельности и здесь она пусть справляется сама. Философия не должна назойливо предлагать частным наукам свои услуги, в то время когда ее проблематика, с которой никто больше не справится, ждет своего осмысления. Только неумение видеть собственное дело заставляет философию разменивать себя на служение разным господам (женского, впрочем, рода – идеологии, науке, религии и т.д.). Более того, пока философ не повернется к философии и не увидит в полной мере всю полноту задач, не ощутит всю полноту ответственности за их выполнение , все его усилия достойно проявить себя в услужении иным сферам деятельности будут оканчиваться крахом. Ничего значительного он не внесет в их понимание, поскольку сам еще не поднялся до уровня самосознания. Философия как форма самосознания сама требует уяснения собственных задач. Много ли пользы реальному развитию теоретической физики – фундаментальному основанию всего современного научного знания – принесло многолетнее обсуждение философами «методологических проблем физики»? Хотя было и много интересных частных моментов в этом обсуждении.
Философия, вышедшая из своей сферы деятельности, не имеет точки опоры и ее суждения оказываются неосновательными. Обсуждать «методологические проблемы» наук (далеко не каждой), конечно, можно – но с ориентацией не на эту науку в стремлении дать ей что-то недостающее, но подразумевая, в первую очередь, исключительно собственный интерес – распознать и выявить специфику форм мышления, их структуру, закономерности функционирования, обусловленность.
Только тогда, когда философия сможет разобраться с недостатками и изъянами собственных способов, методов и условий понимания, когда увидит, с какой легкостью сама продуцирует бесполезную схоластику - пустую породу мысли и сумеет справиться с ней, вот тогда ей не придется искать работу на стороне и разбирать частную методологию она будет как частное же дело, на досуге, для собственного удовольствия и отдыха.
Буквально-иносказательная образность подлинно философского высказывания не означает, конечно, обязательно какой-либо визуализации, предметности внешнего представления. Вместо слова «образность» здесь можно употребить термины «значение», «конкретность». И это будут ускользающая конкретность и пустое значение.
Пустоту не-сущего, видимость способно уловить, скорее, не категория, данная в виде непонятного термина, который в дальнейшем поясняется с помощью аналогий – субстанция, мировой дух, дао, не-деяние etc. Не-сущее лишено определенности и обычные категориальные формы здесь использовать нельзя. Поэтому перечисленые термины в рациональном рассуждении участвовать не могут и служат только способом говорить, это именно пустые формы, буквально-иносказательная образность.
Соответствуют ли им что-то в реальности? – так мы привыкли ставить вопрос по поводу сущего. Но в том-то и дело, что это сущее особого рода, вернее, мы подходим к нему особо, открывая в сущем его иное. Необъективируемое не-сущее обозначает границу человеческого мира, пролегающую не «за» пределами бытия, а существующую в каждой его точке. Это не метрически - пространственные границы и в любом месте возможен прорыв упорядоченного и понятого сущего. Происходит это как преодоление существенности, когда все берется как равное. Где существенное на картине великого мастера, а чем можно пренебречь? В отношении к искусству этот вопрос, обычный для научного взгляда, звучит очень странно. Кто хоть немного знаком с историей живописи, знает, что второстепенных деталей здесь нет, каждая необходима и выполняет свою смысловую функцию. Художник совершенствует свое произведение так, что в нем все одинаково значимо и художественное творчество изначально направлено не на избирательную рационализируемость, а выполняет функции интегративного, преодолевающего различия вuдения. Но встречу различий мы понимаем как выражение аспекта не-сущего, не постижимого в понятиях и потому художник творит, преодолевая голую рациональность, рассудочность. Второстепенным на его картине было бы то, что им не осмыслено в должной и необходимой мере. Но это означает несовершенство и картина тогда не есть подлинное произведение.
Ж. Батай говорил о скользящем слове, приводя в качестве примера слово тишина. Качество смыслового скольжения принадлежит вообще философской речи.
Эта уловка предохраняет философию от сомнительного внимания незрелых и поверхностных умов, отталкивает их – и слава Богу! Иначе они сотворили бы нечто химерическое из прочитанного, нечто агрессивно-идеологическое – при их зачастую неуемной энергии.
Может быть и так, что пустое суждение автор формулирует неявно для себя, так что распознать таких суждений можно больше, чем их формулируется осознанно.
Перед самим собой как философом - бескорыстным созерцателем и мастером точных словесных форм.
3.8. Мышление запредельного. Потенциальная содержательность ничто. Герменевтика опыта
Запредельное мыслить в прямом значении этого слова (т.е. адекватно, объективно, все больше приближаясь к истине) уже невозможно. Мышление закончило свою работу в экстенсивном развертывании на границе человеческого мира, дальше – буквально ничего. Граница очерчивает не только сущее, но и не-сущее, беря последнее в отношении к человеку. Рациональность фиксирует понятийным образом, как оно привыкло действовать, и эту вторую суть границы. Но эти понятия уже опустели, они потеряли все свои значения, поскольку вовне человеческого мира, по определению, нет ни одного значения, на которое могло бы опереться философское высказывание. Возможность адекватной интерпретации здесь отсутствует. Пустые формы философского суждения обладают возможностью бесконечной интерпретации при их ориентации в сферу человеческого сущностно-понимающего бытия. И, вместе с тем, они не дают ни одного значения (не подлежат толкованию) при попытке выхода в принципиально необъективируемое содержание. Как результат присутствия не-сущего в формах философского высказывания последнее несет на себе печать недосказанности и вообще невысказываемости, останавливая нескончаемую выговариваемость, давая возможность активного включения процесса завершения понимания у читателя, опирающегося на собственный опыт познания не-сущего.
Здесь мы подошли к определяющей стороне специфики философского текста, которая позволяет получить определенный результат, когда вся определенность, как кажется, потеряна, и что-то дать, не давая при том ничего, точнее – давая ничто. Его исконная пустотность призвана создавать перспективу. Бесконечная потенциальная содержательность ничто дает необходимую свободу и простор для развертывания и становления продуктивной рациональности, не забывающей своих границ и собственной основы.
Философское рассуждение строит понимающее перспективное пространство, в которое вводится практическое знание читателя, его интеллектуальный и духовный опыт. Философский текст предполагает наличие соответствующего знания и опыта читателя и служит его осмыслению, направлен на упорядочение и достижение целостности существующего разбросанного материала опыта.
Сообщить какое-либо знание (хотя это знание у автора философского текста есть), отсутствующее у читателя, он не в состоянии – тот просто не поймет, о чем идет речь. С «нуля» философия воздействовать не может, нужен соответствующий, внутренне пережитый и как-то понятый опыт, понимание которого можно развить философским оформлением. Это процесс осознания имеющегося знания. Философским «объяснением» достигается только практическое знание читателя. Читающий ищет истолкования своего опыта, только это он и может получить, все сведения, которые он получает кроме этого, опять повиснут мертвым грузом неизвестно чего и будут ждать своего часа для вхождения в ясное осознание. Философское рассуждение предстает, таким образом, как герменевтика опыта. Читатель, однако, должен быть подготовлен к переосмыслению своего опыта, обогащению его пустотной подвижностью и видимостью – ему необходимо поддерживать свое понимание опыта как проблематичное.
Ситуация рассмотренного влияния текста на читателя должна быть дополнена обратным движением, от читателя к тексту. Сочетание двух разнонаправленных движений рождает интуицию единства противоположностей, которую далее субъект пытается выразить в рамках однонаправленной логики. Возникший диалог «читатель - текст» может обнаружить не только изменение понимания читателя, но и возможность углубления самого текста, когда читающий видит в нем недосмотренное автором. Опять-таки, в силу никогда не исчезающего нерационализируемого компонента-остатка в любом глубоком тексте, в нем будет сказано нечто помимо воли автора, вместе с тем, автор не может подавить свое стремление интерпретировать – только так он может понять собственный текст. Любая рациональная интерпретация всегда конечна. Автор может, конечно, заглянуть в незаполняемый темный провал, где гаснет цепь толкований сколь угодно большой протяженности. Он, возможно, ощутит иной смысл, но не достигнет его, поскольку этот ряд последовательных осмыслений бесконечен, он определяет потенциальную неисчерпаемость человеческого мира (включающего как свою часть и физическую Вселенную). Лучшее, что автор может сделать – это выйти вообще за пределы исчерпанной классической рациональности, отказаться от достижения полной понятности и ясности, положившись на самое неустойчивое – неопределенность, но, одновременно, самое реальное и действительное.
Понятно, что философское высказывание не может быть прямо соотнесено с эмпирическими фактами. Они (высказывания) принципиально абстрактны и являются вершиной рационализма. Но свою абстрактность философия должна правильно видеть, чтобы избежать постоянного соблазна интеллекта – подменять своими построениями реальный мир. Философское высказывание не может быть оценено как истинное или ложное, даже по отношению к другим философским высказываниям. Они не могут находиться в состоянии формально – логического противоречия, они всегда совпадают или, по крайней мере, могут оцениваться как взаимодополнительные, если стремиться рассмотреть их с точки зрения последовательной ясности. Философское высказывание (текст) само задает условия осуществления опыта, границу и структуру концептуальности, укладываясь в которую, содержание фактов уже будет оцениваться соответствующим образом.
Значение истинности относится к высказываниям с конечным контекстом (конечнозначный контекст), который можно исчерпать перечислением его значений. Философские фразы имеют бесконечнозначный контекст, который может иметь лишь локальное исчерпание в интерпретирующих рамках конкретной культурной эпохи.
Философские фразы сродни математическим определениям – они задают условия развертывания концептуальности. А ведь это отнюдь не может считаться «лязгающими ножницами», если вспомнить сравнение Витгенштейна по отношению к философии . У них кажущаяся бесполезность, они всегда на втором плане, за сценой, но оттуда исходит сценарий всего происходящего.
Тот факт, что философия не добавляет фактического, предметного знания, а «всего лишь» упорядочивает имеющееся, беря его в адекватной форме, точно укладывается в критерий самозамкнутости рационального суждения. Мы, следовательно, целиком и полностью остаемся в условиях рациональности, не привнося некие мистичность, иррационализм и прочие неясные вещи для преодоления классической рациональности. Эта самозамкнутость, конечно, не абсолютна – в противном случае это противоречило бы всему сказанному выше. Делается ясным факт, что сущность классического рационализма – декларирование требования понимания вне веры. Все причины должны быть посюсторонними, проверяемы, воспроизводимы. Мышление ищет собственную основу, но в нее оно неизбежно верит. Классическая рациональность борется сама с собой, рано или поздно натыкаясь на противоречия в своих методах, периодически разочаровываясь вообще в практике мышления. Фактор веры рациональность несет в себе, это возможно и необходимо сделать движущей силой способности мышления, а не стыдиться как некой вынужденной уступки чуждому способу понимания.
Область собственных значений пустых форм именно пуста, т.е. у таких высказываний отсутствует собственный контекст, у них нет буквального значения. Эти формы сами по себе совершенно бессодержательны, что является настоятельным требованием к философскому тексту. Он должен таковым быть – чтобы охватить любую содержательность в акте ее понимания. Неуклонное стремление к последовательному изгнанию остатков имеющейся содержательности выводит философа на уровень адекватного и незаинтересованного, всестороннего, взвешенного и трезвого суждения, суждения «под знаком вечности». Философ безличностен, он должен потерять себя, заставить себя, по выражению Ф. Искандера, «выпасть из жизни».
Не-сущее, ускользающее из всех имеющихся способов понимания классической рациональности, оказалось включенным самым явным и действенным образом в работу осознания на своей собственной основе, как только субъект обнаруживает фатальный тормозящий фактор своего мышления – невозможность содержательного исчерпания декларируемого «конкретного тождества» понятий. Причем, в случае научной задачи классическая рациональность полностью выполняет свою функцию реализации понимания, поскольку мышление здесь имеет возможность выбирать существенное и пренебрегать «остатком». Научная рациональность действует абстрактно и остается в рамках абстрактности, концептуально или в техническом приложении.
Философская рефлексия претендует на подлинную конкретность, но в подлинной действительности не бывает несущественного и различия хотя и присутствуют, но не обладают смысловой устойчивостью и обособленностью. Потому и устремляет философия содержание понятий в нерационализируемое состояние «диалектического противоречия», но ее желание полностью контролировать процесс познания на всех этапах, отдавать в них полный исчерпывающий отчет, составлять опись понятого однозначно лишает ее возможности устойчивого действительного понимания.
Философское понимание приходит в рамках пустых форм мышления. Эти формы являются условием понимания различного рода содержательности и продуктивны они не сами по себе, но в отношении к понимаемому. Пустые философские высказывания подлежат бесконечной интерпретации, приводящей к определенному значению. Но это значение – не их собственное. В пустых формах содержательность приходит сама к себе, но принимает одновременно в себя аспект не-сущего, видимости. Видимость содержательности, таким образом, как неотъемлемое свойство пустых форм переносится в понимание, которое также включает в себя видимость, условность, «как бы».
Пустая форма также определяет направленность, ракурс вuдения, угол зрения: гуманизм, справедливость, счастье, Бог, народ, добро, благо… Использование этих форм выстраивает ценностно структурированный и ориентированный человеческий мир.
Когда парикмахер стрижет, он периодически лязгает ножницами в воздухе, что совершенно бесполезно для стрижки, но создает некий антураж процесса. Такова, по мнению Витгенштейна, и философия – никчемное занятие. Здесь виден перекос во взгляде на философию в сторону ее схоластической компоненты, заслоняющей все позитивное содержание.
3.9. Схоластика, ее специфика, причины, результаты
Явление схоластики возникает при манипулировании пустыми формами как реально-значащими выражениями. В этом специфика схоластики как своего рода постоянного искушения рацио. Схоластику нельзя представлять просто как исторически преходящую форму средневекового рассуждения в теологии и философии. Это феномен, сопровождающий рациональное мышление во все времена и имеющий собственную природу, воспроизводящую его в иных условиях, иных формах сознания и культуры. В Средние века этот феномен предстал наиболее ярко сравнительно с предшествующими эпохами.
Схоластику порождает сама рациональность на этапе ее относительной незрелости. Поскольку же ни психика человека, ни его способность мышления не развиваются линейно, по восходящей, от низшего к высшему – низшее здесь не становится подчиненным и играет свою роль в трансформирующейся целостности сознания, то состояние незрелости в рациональной мысли присутствует всегда. Далеко не каждый субъект достигает границы рацио, не каждый, кто достиг, понимает, что это граница и не каждый, кто понял это, умеет правильно применить свое знание.
Рациональность сущностно связана с видимостью, которая и является основой как для достижения твердого и необходимого знания, так и для его противоположности – знания схоластического, которое возможно в точных науках (реже, в период методологического становления и в кризисные эпохи) и в социально-гуманитарных дисциплинах, особенно когда они начинают считать себя наукой по имеющемуся образцу – например, теоретической и экспериментальной физики.
Схоластика может быть представлена как форма рационального мышления, замкнувшегося на себе. Поскольку же самозамкнутость есть сущностная черта рацио, то и с этой стороны находим тесную связь качества строгого мышления и аспекта бесполезности, голой умозрительности знания. Схоластика вообще есть видимость, не достигшая своей истины, это замкнутое в себе рассуждение, не ведущее к практическому применению в реальной жизни ни конкретного человека, ни общества в целом.
И старая, средневековая, и новая схоластика (Нового времени, включая современность) выражают тенденцию книжной умозрительности, видимости уразумения, мнимой углубленности, терминологической эквилибристики. Разница между ними в том, что в случае феномена средневековой схоластики новоевропейский разум представлял себя свободным от нее, рассматривая ее исключительно как результат теологических спекуляций. Однако, начиная с эпохи Просвещения, заработали в полной мере собственные рациональные механизмы порождения схоластики, поначалу без всякой теологии, а потом вообще без Бога. Бог умер! – заявила передовая и трагическая мысль Запада в лице Ницше. Это было последним серьезным заявлением существующего гуманизма, знаменующее его окончательное разложение и деградацию. Умер Бог – умер и человек.
Возник крайне устойчивый и мощный феномен политической идеологии со своим поддерживающим аппаратом из околофилософской обслуги и просвещенно-полуобразованной публицистики. На этой безрелигиозной стадии схоластика становится уже не просто абстрактным знанием, оторванным от реальности, но абстрактным знанием со знаком минус, как такое, которое начинает активно подминать под себя действительное существование, искажать его и разрушать. Новая схоластика, соединившись с политической идеологией, получает активность и внешнюю жизненность, отвлеченность и абстракции оказываются действенной и реальной, определяющей социальной силой. Но это все, тем не менее, чистая видимость, которая в любом случае остается только видимостью. В этих формах общественного сознания нет главного – подъемной силы, преодолевающей собственное содержание и обособленность, ведущую к реальному контакту субъекта и сущего. Субъект в схоластике идеологем остается отчужденным и частичным, что бы он сам о себе ни воображал.
Схоластика – такая практика рассуждений общего порядка, которая закрывает реальную неопределенность и неопределимость сущего набором искусственно вводимых терминов, выполняющих функцию замещения действительности. Все операции в рамках схоластического мышления не выводят субъекта за пределы терминологической детерминации, и он целиком вращается в иллюзорной реальности королевства кривых зеркал рефлексии. Если рацио можно определить как рассуждение в терминах сущности, то схоластика – это дискурс структуры. И сущность, и структура являются рациональными понятиями, требующими совместного рассмотрения. Нельзя сказать, что, направив внимание на сущность явления, мы останемся в рамках плодотворной рациональности, а, поставив на первый план структурные особенности процесса или объекта, будем изначально продуцировать оторванность от реальности. Схоластика имманентна классической рациональности, поскольку последняя не знает собственных границ. Там, где эти границы не достигаются – в представлении объективированных природных форм, внутренняя ущербность классической рациональности не проявляется и естественнонаучное знание, отвечающее этим абстрактным формам, может быть непротиворечивым, строгим, точным и общезначимым.
Там же, где речь идет о необъективируемых формах сущего – таковы история, культура, личность, ценности, смыслы, значения-знаки, прежний способ мышления начинает во все увеличивающихся масштабах тиражировать схоластику, поскольку в открытых системах отсутствуют определенные границы и вводимые рациональные понятия не могут двигаться естественно в описании таких систем. В данных понятиях не находит отклик не-сущее, они слепы, «не знают», куда двигаться. Да и говорить о системах, хотя бы и открытых, в случае осмысления перечисленных форм сущего не вполне корректно, это только точка зрения на них той же классической рациональности, признающей их сложность, нелинейность, целостность, но старающейся справиться с этим усложнением разработкой новых, более изощренных и экзотических способов анализа и описания (в физике, например, это работы школы И. Пригожина по термодинамике неравновесных процессов). Но, применяя термин «система» (четко, кстати, не определенный), мы уже вводим сущее в предзаданные рамки и опять имеем дело с превращенной действительностью, делая еще один шаг все в том же ряду последовательных приближений – рационально исчерпывающих описаний – к актуально бесконечному сущему. И дело здесь не обстоит так, что мы становимся все ближе и ближе к нему и практически овладеваем им, пусть даже не вполне понятым. Имеется кардинальный разрыв между рациональными приближениями и их «пределом»: эти рациональные приближения к искомому пределу не сходятся, потому мы и взяли его в кавычки. Точнее, они имеют сходимость, но она не совпадает с действительностью.
Рациональность промахивается в подлинном понимании, рассекая сущее на отдельные фрагменты и действуя методом последовательных приближений. Оттого, в частности, и в истории достигается совсем не то, чего хотели политические деятели или сам народ, хотя иные действующие лица отсутствуют. Не отсюда ли, из этого исторического бессилия достичь желаемого, возникают поистине первобытные страхи людей Нового времени, которым во тьме истории мерещатся действия тайных сил некоего «всемирного правительства», бесчисленные заговоры, происки спецслужб (это уже ближе к нашему времени), щупальца тайных организаций и прочие химеры. Все эти неконтролируемые общественностью силы представляются, разумеется, чуждыми ей, всепроникающими и могущественными. Верно здесь только впечатление неисчезающей тайны – такова действительность, в которой есть не только неизвестное, но и непознаваемое. Правда, общественное мнение успокаивает себя доступным ему образом – описывая тайну действительности в понятных образах злокозненных и неуловимых заговорщиков, которых, хотя бы теоретически, можно обнаружить. Непознаваемое сводится к неизвестному, в принципе поддающемуся разгадке. Иными словами, представление Воланда в цирке будет всегда восприниматься публикой как выступление ловкого фокусника.
3.10. Предварительная классификация философских высказываний. Контекст интерпретаций
Множество высказываний, которые можно отнести к пустым формам мышления, неоднородно. Их предварительную классификацию проведем по критерию метафоры границы. К этому множеству нельзя относиться с точки зрения формальной логики и дать его исчерпывающее описание, поскольку его элементы сами лишены определенности. Граница здесь сама понимается как пустой термин, т.е. и буквально, и иносказательно. Это место высказываний, имеющих универсальную применимость в процессе уяснения любого рода содержательности. Совокупность всех мыслимых высказываний различной степени абстрактности – от единичных до всеобщих – образует семантический Универсум человеческого понимания, то, что можно назвать человеческим миром. То содержание, которое субъект в принципе может понять, включается в его мир. Поэтому те сферы и уровни сущего, которые ему еще неизвестны, но могут быть рано или поздно поняты, тоже входят в содержание семантического Универсума. Это, таким образом, мир человеческого присутствия – актуального или потенциального.
Однако, и логика исторического развития, и социальная практика действия, и процесс непосредственного рационального познания подводят нас к положению, в котором ускользающее присутствие не-сущего время от времени становится явно ощутимым. Граница человеческого мира очерчивает не некую пространственноподобную область, где «внутри» находится сущее, а «вне» - ничто, это слишком наглядный и потому неверный образ, но указывает на принципиальную неустойчивость и неопределенность самого сущего, на его инаковость по отношению к себе же. Ничто не «за» пределами бытия (бытие пределов не имеет), а присутствует в каждой точке, в любом месте и времени – как возможность иного видения реальности, как преодоление доминирующих форм мышления, означающее, прежде всего, умение понимать и принимать сущее вне выделения аспектов существенного и несущественного. Это, таким образом, не пространственные границы, задающие устойчивость пребывания вещей. В любом месте возможен прорыв упорядоченного и понятного бытия: в бытии сквозит ничто, а ничто оборачивается бытием. Поскольку, как оказывается, граница человеческого мира проходит везде, то она перестает быть собственно границей. Все бытие является этой сплошной пограничной, неустойчивой и тревожной областью, где пребывание сущего всегда может быть поставлено под вопрос, может быть оспорено и отвергнуто. Приверженность бытию и реальности оставляет возможность нигилизма, если видеть односторонне лишь этот отвергающий момент.
Европейский нигилизм как раз и пользуется этим правом, делая это именно односторонне, жестко разделяя сущее и не-сущее, смысл и неосмысленность. В рамках классического рационализма иной ответ не может быть найден, в нем изначально задана, заложена остановка осознания. Классическая рациональность выигрывает, можно сказать, бои местного значения, проигрывая в окончательной битве. Классическая рациональность слишком рациональна и этот гнет должен быть ослаблен, чтобы не деформировать окончательно получаемое знание. Мысль слишком много на себя берет…
Итак, граничное положение философских высказываний обусловливает их открытость по отношению к не-сущему, а тем самым, и определенную степень пустотности, внутренней подвижности, самодвижения. Эта пустота не схоластически бессодержательна, она не только пуста, но, как раз есть всецелая содержательность.
Пустота философских высказываний обнаруживает себя как раскрывающийся простор истины, позволяющий субъекту соприкоснуться не с фрагментами самого себя, а с истинной действительностью. Пустоту нужно увидеть как вмещающий простор, а философское высказывание – как необходимо несущее несокрытость.
С этих позиций классическая рациональность действует не в истине, ее высказывания не обладают простором, они сплошь заполнены собственной определенностью и в силу изначальной самодостаточности неподвижны, не нуждаются ни в чем ином и не хотят знать иного. В классической рациональности ощущается самодовольство и претензии на всезнание – если не сейчас, то в перспективе несомненно. Причем ее способы понимания постоянно опираются на наглядность, образность и примеры. Однако наглядность нередко ведет к поверхностному пониманию, которое только кажется очевидным, оно лишь подтверждает то, что субъекту и без того уже известно. Он, следовательно, при этом укрепляется в своей фрагментарности и слепоте. В такой практике мышления закрепляется как раз отсутствие мысли. Много на себя взяв – фактически, все определение человека – мысль классической рациональности обращается к заменителям, муляжам, имитациям и часто начинает просто симулировать, изображать бурную интеллектуальную деятельность.
Так, ее трактовка истинного знания как совпадающего с действительностью (таково наглядное представление) ясна только по видимости. Совпадать могут только равнопорядковые в онтологическом плане объекты: знание может быть соотнесено со знанием, а действительность – с действительностью же. Кроме того, если действительность дана в рационализме только в форме знания о ней, то каким образом их можно соотнести? Как это сделать? В нашем распоряжении есть лишь одна сторона этого соотношения! Что же мы говорим, когда бездумно утверждаем некие очевидные, как кажется, вещи? Мы при этом просто односторонни. Сознание в такой ситуации спит, и субъект вращается полностью продуктах распада квазимыслительной деятельности.
Относительно границы высказывание может иметь троякую ориентацию: оно может быть направлено (т.е. иметь своим предметом или обладать значением) «вовнутрь», «вовне» и само на себя.
В последнем случае высказывание не находится нигде, только на границе удержаться нельзя, она не фиксирована и не имеет собственной определенности. Высказывание, не ориентированное в сущем, становится чистой абстракцией, оно вненаходимо – но не в положительном смысле этого же термина у М. Бахтина. Все эти высказывания в силу их принадлежности границе являются пустыми, но эта разная пустотность. Будем различать, соответственно, высказывания собственно пустые, превращенные и мнимые.
Первые имеют бесконечнозначный контекст интерпретации и являются условием понимания любого реального содержания. Эти высказывания фрагментируют действительность так, что она предстает в предметно-процессуальном виде, который может быть рационально описан и объяснен. Их буквализм минимален (контекст собственных значений практически пуст), иносказание – максимально (то, что может быть названо, имеет кардинальные условия понимания, воплощенные в этих высказываниях).
Вторые какой-либо интерпретации вообще не подлежат, им ничто из предметно-процессуальной действительности не соответствует, они не имеют значений «внутри» ее. Это не условия понимания, а способ говорить и называть. Эти формы условно-описательны, дискурс сущности в них отсутствует. Они выполняют замещающую функцию и окончательно закрывают вопрос о том, что же им соответствует в действительности. Возможность адекватной интерпретации здесь отсутствует в принципе. Что им соответствует, какая суть в них находит свое отражение – узнать невозможно, поскольку вся суть, о которой можно составить рационально определенное представление образует мир человеческого присутствия.
Когда Гегель говорит, что абсолютная идея отчуждает себя в природу, он высказывает суждение в превращенной форме, поскольку сама по себе абсолютная идея не поддается толкованию в привязке к каким-либо аспектам предметной действительности, она сама составляет начальный пункт процесса понимания. Когда Гегель описывает формы объективации мирового духа, он работает с содержательно пустыми высказываниями, которые подвергает определенной интерпретации.
И, наконец, третий вид граничных суждений предполагает их реальную и самостоятельную значимость. Субъект нередко понимает их наивно и буквально, и это тот род наивности и незрелости мышления, который свойственен рационализму. Мнимость этих суждений определяет их частую трактовку как схоластических.
Одно и то же суждение может быть отнесено к различным типам в зависимости от качества осознания понимающего субъекта. Именно соотносимость с конкретным субъектом актуализирует преимущественно тот или иной аспект высказывания и выход из гносеологически замкнутого цикла, когда познается то, что субъект фактически уже знает, заключается в его осознанном стремлении руководствоваться высоким критерием граничного понимания по отношению к любого рода содержательности.
Граничное понимание представляет собой осознание в рамках превращенных форм, т.е. субъект предполагает наличие элемента превращенности в рассматриваемом высказывании, тексте и т.д. и, далее, ищет его. Такой подход позволяет освободиться от власти описания, от тенденции придавать какому бы то ни было описанию и толкованию черты самодовлеющей достоверности, не дает забыть о всегда присутствующей в понимании доле условности.
3.11. Становление мышления. Современность современников
Становление мышления как процесса, направленного к пониманию, проходит не просто сложный, а практически незавершаемый путь и в обществе, и в эволюции отдельной личности. И, тем не менее, он может достичь такой ступени, когда качество мышления позволяет прийти к твердому и действительному знанию без претензий на его исчерпывающий и окончательный характер. Субъект имеет возможность перейти от фрагментарного к полному пониманию сущего с учетом неустранимого элемента условности такого понимания, что является кардинальным условием его реализации. Условность и видимость перестают быть только недостатком искомого описания, как это было с точки зрения классической рациональности.
Как только субъект в процессе самопознания последовательно переходит от пассивной и приспосабливающейся природной жизнедеятельности к различным формам активной орудийной практики, он строит вокруг себя жизненный мир. Поскольку он является законодателем этого мира, то должен, плохо или хорошо, но обязательно осознавать свои действия. Это уже не слепота животного инстинкта, хотя в социуме человек действует по большей мере неосознаваемо-заданным образом. Социальный инстинкт в принципе может быть осознан человеком, если его настойчиво побуждать к преодолению привычного сонного состояния. Какой-либо насущной необходимости, которая постоянно подталкивала бы человека к такому осознанию, по-видимому, нет. Для успешности практической материальной деятельности достаточно набора социальных инстинктов, которые должны просто выполняться, а с осознанием их природы или нет – для общества это неважно. Вся насущность, все то, на что человек откликается непосредственно, т.е. его сугубо природная, обеспокоенная заботами сторона, проходит вне его раздумий.
Жизнедеятельность человека в своей массе преимущественно материально практична и углубление осознания само по себе не делает эту практику в каком-то принципиальном отношении лучше, скорее, даже, начинает ее разрушать. Это справедливо, по крайней мере, на достаточно длительном этапе углубления сознания. Далее оно создаст иную, более подходящую среду обитания – но поначалу следует дисгармонизация в существующих отношениях, распад жизненного мира с последующей его возможной трансформацией (или, соответственно, гибелью индивида, не сумевшего это сделать).
Осознание плодотворно не в своем промежуточном разорванном состоянии «сомнений, шатаний и разброда», характерном для нашего образованного современника, потерявшего религиозные ориентиры и не знающего настоящей фундаментальной научной практики: его длительная неукорененность, потеря почвы, незнание «куда себя деть», акцентировка на политической болтовне и склонность к самообману – все это не в малой степени является результатом зависания и остановки процесса осознания в некой промежуточной точке. Остановка определяется позицией «я знаю», это то состояние, которое и вызывается рациональностью. Современный человек рационален…
Мышление на заре становления человеческих цивилизаций вышло из наивно-неразвитого состояния, но, вместе с тем, цельного и не дошло до утверждения новой целостности и полноты, оставшись в хаотическом наборе когда-то прослушанных и забытых лекционных курсов (а бывает, что на них формулировались глубокие и точные истины, которые гасли потом в воздухе рассеянно слушающей аудитории), десятка прочитанных книг и гигантском самомнении, разрешающем субъекту без всякой ответственности безапелляционно судить и рядить обо всем на свете.
Кроме того, акцентировка на чисто теоретической деятельности, особенно в трудно проверяемых областях социально-гуманитарных дисциплин, нередко позволяет ускользнуть от результативного конкретного труда и пребывать субъекту в комфортных (с его точки зрения) условиях имитации деятельности.
К счастью, не одной необходимостью движим человек. Духовная культура есть результат ощущаемого им избытка своих сущностных сил, а не нечто внешне-принудительное. Так или иначе, но человек должен определенным образом трактовать действительность, следовательно, и понимать ее. Развитие форм и способов понимания приводит к уяснению тех условий, при которых мышление происходит и живет. Когда само мышление обращает внимание, что такие условия есть и начинает их прояснять, тогда в жизненном мире субъекта происходит фундаментальная «переоценка ценностей», смена декораций среды его обитания. И это является тем существенным этапом, на котором мышление субъекта, следовательно, и сам субъект, начинает становится опять целостным и продуктивным, и только с этого момента он может обоснованно считать себя понимающим.
Происходящая переоценка ценностей такова, что ценностная иерархия, говорящая о бoльших и мeньших ценностях, более не существует. Появляющийся простор не выделяет только одно направление восхождения, он не односторонен и, одновременно, не многостороннен, он характеризуется открытостью .
Эта открытость позволяет раскрыть внутреннее содержание наших вопросов, провести их со всей возможной основательностью. Мы видим и отметили это в начале, что современный человек рационален. Далее пришлось смотреть внимательнее, что означает современность и рациональность. Выделенное курсивом высказывание по нашей классификации суть мнимое, самодостаточное. Но его необходимо было раскрыть, определить эту мнимость в ее многообразных проявлениях.
Проблема рациональности в XX столетии явно заострилась и вошла в кризисную фазу, когда сама рациональность, ее носители (научное знание) стали ставиться под уничтожающее сомнение. Усиливающийся негативизм выбрал своим объектом критику явной недостаточности существующей формы рационализма, однако тотальная критика менее всего способна обнаружить должную меру своего объекта.
Современный как отвечающий на вызов времени не является, конечно, характерной чертой большинства наших современников. Они не современны и не хотят принимать вызов, но не хотят и признаваться в этом. В этом их отличие от прошлых поколений, для которых вопрос о современности не отличался от знания требований текущего календарного времени. Вопрос о времени, тем не менее, достиг своей тревожащей глубины. От него уже не отказываются, но пока обходят.
Соответственно понятию современности раскрыто понятие рациональности, в котором выделены две компоненты – классическая, определяющая внешнюю и формальную правильность и неклассическая, ведущая, внутренняя, говорящая о сути, внешне не всегда представляющаяся правильной.
Ведущим звеном этих проблем является слабое место рационализма – его склонность к замкнутости, в любой эпохе ведущей к схоластике. Выявление схоластических умствований в наше время, пустого резонерства и фокусов с терминологией есть отдельная и серьезная задача самокритики, обязательной вообще для наук, а для социально-гуманитарных дисциплин в особенности.
Самокритика имеет своей сверхцелью не внутреннюю стройность, последовательность и продуктивность научных исследований, а воспитание такого субъекта познания, который перестает быть только субъектом и даже перестает быть личностью, но начинает развивать в себе новую форму продуктивности, открывает качество сверхличности, отвечающее его внутренней свободе.
«Поэтому динамизация социально-исторических процессов и беспрецедентная задача искоренения социального насилия настоятельно требует смены ценностей и механизмов моральной регуляции. От того, насколько своевременно цивилизация сумеет ответить на это историческое требование, в существенной мере зависит, состоится ли XXI век» [179, 4_1].
Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел языкознание
|
|
