Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Комментарии (1)
Левидов М. Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта
Глава 13 Свифт получает счет
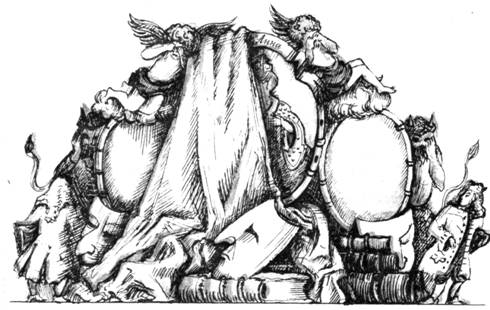
Жизни мышья беготня…
Пушкин
– Ты этого хотел, Жорж Данден!
Мольер
В начале июня 1713 года Свифт покидает Лондон и направляется в Дублин, чтоб принять свой новый пост. Лишь две недели проводит он в Дублине, удаляется затем в Ларакор, в уединение.
Недолго длилось уединение, немного времени дали Свифту для раздумий, хоть и было о чем подумать декану собора св. Патрика, расставшемуся с двором, с министерством, с фантастическими мечтами.
Но нет! Рано, оказывается, расставаться ему и с положением и с мечтами. Свифт нужен в Лондоне.
9 июля пишет Эразмус Льюис, секретарь Роберта Харли, тревожное письмо Свифту:
«…Все мы здесь очертя голову бежим к катастрофе… От всего сердца мы хотели бы, чтоб вы были здесь, вы оказались бы очень полезным для нас вашими усилиями примирить их…» (речь идет, конечно, о Роберте Харли графе Оксфорде и Генри Сент-Джоне виконте Болинброке).
А через три недели:
«Лорд-казначей очень просит вас поторопиться насколько возможно, ибо мы крайне нуждаемся в вас!» – пишет Свифту все тот же Льюис 30 июля. И Свифт, который, уезжая, не думал вернуться в Лондон, спешно снимается с места, бросает свой новый пост. В начале сентября он снова в Лондоне.
Но вернуться теперь и, вернувшись, возобновить свою политическую деятельность – это означало больше, чем когда-либо за все это время, выполнять роль защитника торийского министерства вовне, роль опекуна, примирителя, посредника между Оксфордом и Болинброком – изнутри.
Положение было простым, но достаточно безнадежным. С заключением Утрехтского мира историческая задача торийского министерства могла считаться выполненной. И неотвратимо стал перед Оксфордом и Болинброком грозный вопрос: что же дальше?
Невозможность уйти от этого вопроса, она и обострила их конфликт.
«Нельзя было найти двух людей более различных и по методу своих занятий и по характеру своих развлечений, по выбору друзей, по манере беседы, по деловым привычкам», – писал о них Свифт вскоре после наступившей катастрофы.
А как многого он еще не знал, верней, не хотел, боялся знать…
А крах надвигался неотвратимо.
Со второй половины 1713 года здоровье Анны резко ухудшилось, смерти ее ожидали каждую минуту. И вопрос о престолонаследии стал центральным.
Правда, теоретически вопрос этот был давно решен: принятый закон о престолонаследии передавал английский трон протестантской ганноверской династии. Но виги утверждали, и широкие общественно?политические круги склонны были им верить, что партия тори готовит маленький переворот, имея в виду после смерти Анны передать трон «претенденту», притом не без помощи Франции. И хотя один из пунктов Утрехтского договора устанавливал, что Франция отказывается от всякой поддержки «претендента» и даже удаляет его из пределов Франции, но ходили слухи, что Болинброк – один из авторов этого договора – ввел туда тайные статьи, аннулировавшие этот пункт.
Какова же в действительности была позиция Оксфорда и Болинброка в этом вопросе и во всем комплексе политических вопросов дня?
Увы, определенной позиции и политической программы ни на настоящее, ни тем более на будущее не было у одного из них – графа Оксфорда.
Только бы продержаться – в этом заключался пафос политической деятельности Роберта Харли графа Оксфорда. Конечно, он не верил в будущность партии тори; и поэтому он все время страховался, забрасывал удочки в лагерь вигов и всеми силами замедлял, несмотря на требования своих коллег и особенно Болинброка, процесс очищения правительственного и административного аппарата государства от вигов. Он был бы не прочь просто переметнуться к вигам, если б это было возможно. Но, чувствуя, что это вряд ли возможно, Оксфорд подумывал и о лагере «претендента», поддерживая в то же время сношения с ганноверской династией. К сложной системе перестраховки сводилась, по существу, вся его тактика.
Но была и позиция и программа у Генри Сент?Джона виконта Болинброка. Хаотическая, правда, утопическая, но смелая, далеко идущая.
Не отразилось ли на этой программе могучее воздействие Свифта?
Да, Болинброк презирал тори как партию невежественных сельских сквайров, с яростной насмешкой оценивал он, глубокий атеист, роль тори как «защитников церкви» и вместе с тем считал эту партию молотом в своих руках, чтоб сокрушить вигов. А вигов он ненавидел как представителей денежных интересов, как партию Английского банка, Ост?Индской компании, «шерстяного мешка», на котором восседал в палате лордов лорд?канцлер… Чувствительнейший удар вигам хотел он нанести, разработав одновременно с Утрехтским договором проект англо?французского торгового договора. Это был замечательный проект, очень смелый по тем временам, в основе которого лежал принцип открытых дверей и свободной торговли, главным образом в отношении вывоза необработанной шерсти: осуществление такого проекта должно было подорвать устои Ост?Индской компании и монополию английских экспортеров сукон – в большинстве своем вигов. Сити приняло в штыки этот проект, он был сорван еще до его обсуждения, и лишь впоследствии, через несколько десятков лет, при изменившейся политико?экономической ситуации, Уильям Питт вдохнул новую жизнь в старый проект Болинброка и тесно связал идеологию вигов с принципами свободной торговли.
И точно так же оказался впереди своего времени Болинброк, планируя, очевидно не без влияния Свифта и предвосхищая Вольтера, систему «просвещенного абсолютизма» как наилучшего государственного строя: эту систему изложил он впоследствии в своих политических трактатах. Понимал он, конечно, что такая система может быть осуществлена лишь новыми людьми, и отсюда его стремление к созданию «третьей партии» – по существу личной партии Болинброка. И так как ганноверская династия тесно связана с вигами и не приходится на нее надеяться как на выполнителя болинброковской политической концепции, – мыслим был лишь один политический план: передача трона «претенденту», при первом министре и фактическом распорядителе судеб Англии Болинброке. И если серьезные историки не подтверждают слухов о тайных статьях Утрехтского договора, то трудно сомневаться, что Болинброк все время находился в тайных сношениях с «претендентом».
То была авантюристическая и утопическая программа, обрекавшая Болинброка на политическую гибель также и в том случае, если б сумел он договориться с Оксфордом и превратить его в свое орудие. Болинброк все же не был политиком крупного масштаба, не умел он прикладывать своего уха к пульсу страны, не мог понять, что вторая реставрация Стюартов объективно противоречит историческому ходу развития страны, что пребывание тори у власти – это лишь случайный эпизод, что будущее за вигами, стоящими на центральной линии интересов господствующих группировок.
И были совершенно правы виги, заявлявшие во всеуслышание, что правительство Оксфорда – Болинброка не может, да и не хочет обеспечить после смерти Анны безболезненный переход трона к Георгу Ганноверскому.
Вот с этим основным аргументом вигов предстояло бороться Свифту в качестве правительственного памфлетиста по возвращении в Лондон.
Свифт боролся. С ненавистью слепой, неистовой обрушился он на это обвинение вигов в нескольких своих новых памфлетах и, переходя от обороны к нападению, ожесточенно доказывал, что это обвинение провокационно и выставлено вигами лишь для того, чтоб замаскировать их собственные подпольные интриги с «претендентом».
Можно ли было так грубо ошибаться, так безжалостно насиловать логику и здравый смысл!
Свифт ошибался грубо, но добросовестно.
Этот человек могучего ума, яркого дара логического мышлений всю свою жизнь, а особенно в этот период, направлял и разум свой и логику в русло потока страстных эмоций, в опору стихийного своего чувства. Его мнение о мире, изначальное, составляющее существо его личности, предопределяло и оформляло его знание мира; в этом принципиальное его отличие от политических мыслителей – Локка, Тоббса, от людей философского мышления – Спинозы, Декарта. Он не искал истины, ощущая ее всегда с собою; лишь доказывал ее, вернее, внушал – страстной диалектикой, мощью темперамента. И этой истиной была в каждый данный момент доминирующая эмоция. А в этот период – ненависть к вигам: было уже сказано, что в них хотел он видеть концентрат всего лживого, развращенного, гибельного в морали и политике.
И поскольку политическая борьба для него была лишь точкой приложения его деятельности морального реформатора, «подметателя Бедлама», постольку он с гневным презрением закрывал глаза на политические реальности дня.
Известная концепция – «тем хуже для фактов»? Нет, Свифт еще решительнее: подталкиваемый своей страстной активностью, своим неуемным стремлением реализовать собственную истину, то есть свое чувство, он не только игнорирует факты, противоречащие этому чувству, но как бы создает факты, этим чувством внушаемые.
Но, кроме того, Свифт просто не мог представить себе – бытово, житейски, – что он в положении дурачка, что Оксфорд и Болинброк обманывают его.
Как бы там ни было, мало радости доставило Свифту его нынешнее пребывание в Лондоне.
Хороши, все так же хороши, если не лучше, были его политические памфлеты данного периода. Энергия натиска в памфлете против Ричарда Стила – очертя голову бросился Стил в 1713 года в политическую борьбу – не была превзойдена Свифтом ни раньше, ни потом; эти памфлеты – физический почти акт, он стремится не убедить, а победить и даже не победить, а раздавить своего противника, растоптать слоновьей своей стопой. Стил для него не противник даже, а нечто неодушевленное и мешающее, что нужно убрать с дороги, отшвырнуть ногой, брезгливо и небрежно; и сообразно этому тон памфлетов оскорбительно небрежен, Свифт как бы нехотя, сквозь зубы цедит свою ярость, гнев его мрачен и брезглив…
Памфлеты произвели впечатление. Сильное.
И однако далеко не такое, как памфлеты «Экзаминера» или «Поведение союзников»: общественное мнение Англии входило уже в новую фазу.
А второй из этих памфлетов – «Общественный дух вигов» – принес Свифту неожиданные неприятности личного свойства.
В одной части памфлета он обрушился – по пути – на целую корпорацию шотландских лордов, заседавших со времени объединения Англии и Шотландии (1707 год) в палате лордов, обвинив их всех оптом в коррупции, практике политического шантажа и прочих грехах. Шестнадцать лордов в торжественной процессии явились к Анне и принесли официальную жалобу против безымянного памфлетиста – всем было известно, что это Свифт, но фактические доказательства отсутствовали. Анна приказала арестовать типографщика и издателя памфлета – нелюбовь ее к Свифту отнюдь не уменьшилась оттого, что ее вынудили сделать его деканом св. Патрика, – и заставила, кроме того, министерство опубликовать сообщение о розыске автора памфлета и о вознаграждении тому, кто раскроет его имя. Правда, Оксфорд принял все меры, чтоб затушить дело, но Свифт мог лишний раз убедиться, как непрочно его положение.
По внешности было почти все так же, как и раньше.
Возобновилась его деятельность «благодетеля», но, очевидно, она доставляла ему гораздо меньше удовлетворения.
Был все тот же круг светских знакомств, все та же обстановка светского успеха, но это повторение уже пройденного – не должно ли было оно казаться при острой чувствительности и мнительности Свифта каким?то неподлинным, вымученным…
А работа «опекуна» требовала с каждым днем все большей затраты нервной энергии, и с каждым днем все ясней ощущалось, что она унизительно бесцельна: к началу 1714 года отношения между Оксфордом и Болинброком дошли до открытого почти разрыва.
И не существовало уже общества «Братьев». Оно распалось как?то само собой, и вместе с ним ушла, может быть не осознанная до конца, мечта Свифта стать диктатором общественного мнения Англии при посредстве этой своеобразной организации.
Правда, в это время жил довольно интенсивной жизнью другой кружок, организованный и возглавлявшийся Свифтом. Это был «Клуб Мартина Скриблеруса» (Мартином в порядке дружеской шутки называл Свифта граф Оксфорд).
Этот чисто литературный кружок, объединявший Свифта, Арбетнота, Попа, Гэя и, очевидно, как постоянных гостей – Оксфорда и Болинброка, поставил себе задачу свифтовского свойства: написать диссертацию об истории лженауки и человеческой глупости – влияние автора «Сказки бочки» чувствуется здесь достаточно ясно, тем более что в приложенном к изданию 1710 года «Сказки бочки» мистификационном списке готовящихся к печати сочинений есть упоминание о подобного рода трактате.
Кружок не успел выполнить поставленную задачу.
Была написана лишь первая часть «Мемуаров Мартина Скриблеруса», это, по существу, лишь черновой набросок или сценарий большого сатирического памфлета. Но имя Мартина Скриблеруса, как и раньше имя Исаака Бикерстафа, оставило свой след в истории английской литературы; под этим псевдонимом выпускал впоследствии свои памфлеты Александр Поп. На собраниях кружка также читалась, обсуждалась, дополнялась и оттачивалась написанная в основном Джоном Арбетнотом знаменитая «История Джона Булля», произведение громадной сатирической силы, могущее быть поставлено вровень в лучших своих местах со «Сказкой бочки» и «Гулливером»; недаром до сих пор во всем мире Джон Булль – общепризнанная кличка типического англичанина.
«Клуб Мартина Скриблеруса» – эти дружеские ночные заседания в кофейнях, где за бутылкой вина обшучивала блестящая четверка весь мир и все человечество: Джонатан Свифт – с горькой своей мудростью, Александр Поп – с утонченной кокетливостью эстета, под которой таилось болезненное самолюбие горбуна, Джон Арбетнот – с холодным и разумным цинизмом врача и наблюдателя моральных и физических недугов человечества, и Джон Гэй – с изящно?грациозной своей манерой беззаботного весельчака?остроумца.
И сюда, на огонек, приходил граф Оксфорд с тайным стремлением в напряженно?веселой болтовне и бутылке вина утопить горестное сознание неотвратимо надвигавшегося краха; приходил сюда виконт Болинброк, нарядный, высокомерный, вызывающе веселый, яростно наслаждающийся всем в себе, милостиво разрешающий и другим любоваться этим всем, великодушно соглашающийся поместить свою звезду – в нее он верил теперь больше чем когда?либо – в центр созвездия этой четверки.
А бывало и так: в поздние часы ночи прибегал, запыхавшись, в кофейню, где сидели четверо, лакей Оксфорда: его светлость приказал передать записочку. Ее разворачивали; граф Оксфорд никак не может прийти, но вот, оторвавшись от своих тяжких забот, он сочинил легкие стихи, юмористическую балладу, острую пародию, шуточную оду – и спешит представить ее на суд своих дорогих друзей.
Стихи читали вслух: «князь рифмы» Александр Поп с брезгливым высокомерием указывал на слабость техники; Джон Гэй наивно удивлялся, как может важный государственный деятель заниматься такими бездарными пустяками; Джон Арбетнот с серьезной торжественностью отмечал удавшуюся строчку; а Свифт?
Свифт единственный среди них понимал жалобную патетичности чудачества Оксфорда – усталый старый человек, истомленный беспрерывной своей мышьей беготней, хочет как?то, в чем?то отдохнуть, беспомощный, как слон, понимал он беспомощность загнанной мыши.
Как это ни странно, Свифт любил Роберта Харли графа Оксфорда, быть может досадливой и стыдливой любовью. Забавный парадокс: с изумительной силой самообмана хотел он видеть в Оксфорде политика глубоких убеждений и моральной чистоты. Измена своему чувству была для Свифта просто невообразимой, но каждое его убеждение было не чем иным, как логизированным чувством.
Положение все ухудшалось на протяжении зимы 1713–1714 года. И если Оксфорд стремился не столь избавиться, сколь обезвредить Болинброка, то последний, столь презиравший лорда?казначея за вялую его медлительность и угадавший двойную его игру – страховку у вигов, стал открыто вести кампанию против Оксфорда, склонив на свою сторону влиятельных членов министерства – Харкура и Ормонда.
Что делать «опекуну»? Конечно, не мог он и помыслить стать на сторону кого?либо из двух: не говорил ли он и себе и другим, что единственный шанс министерства устоять – в их единстве?
Значит, снова «примирять»?
Свифту не только тяжело, ему и стыдно в этот майский вечер 1714 года.
Эбигейл Мэшем, ныне баронесса (но она по?прежнему спит на полу в опочивальне королевы и стелет ей постель), освободила апартаменты для этого свидания.
Они втроем: Свифт, Оксфорд, Болинброк.
Оксфорд улыбался своей бледной улыбкой, Болинброк был зол и хмур.
А Свифту грустно, как бывает грустно взрослому человеку, который чувствует, что не может больше справиться с глупыми и злыми детьми. Грустно, а также и немножко стыдно…
И слова его звучат приглушенно, почти враждебно.
Он отчаялся в возможности что?нибудь сделать, он не может больше быть свидетелем того, что происходит между министрами, и намерен покинуть Лондон. И вот теперь, в эти последние минуты, он все же хочет еще раз спросить: не считают ли его собеседники, что все недоразумения между ними могли бы быть улажены в две минуты, и понимают ли они, что если этого не последует, министерство не продержится и двух месяцев?
В комнате, устланной коврами, наполненной дешевыми безделушками, заставленной ненужными столиками, этажерками, козетками, было тесно и душно.
Оксфорд вытер пот со лба и продолжал улыбаться ненужной, тусклой улыбкой.
Болинброк вскочил со своего кресла, эти стены давили его; бешеным ударом кулака хотел он сшибить стоявшую на дороге этажерку, загроможденную статуэтками вошедшего в моду китайского фарфора, шатавшуюся на тонких золоченых ножках. Но сдержался, речь его была ласкова, почти нежна.
– Доктор Свифт глубоко прав. Если я и мой уважаемый друг граф Оксфорд не найдем общего языка друг с другом, министерство будет взорвано. Наши недоразумения с моим дорогим другом состоят лишь в том, что граф Оксфорд не решается встать на единственный путь, ведущий к победе и славе, что для графа Оксфорда политика означает, – он остановился, пристально глядя на этажерку, – переставлять фигурки на этой этажерке, в то время как ее надо сшибить!
Болинброк замолчал. Заложив руки в карманы узких штанов, он нащупал через тонкий шелк рукоятку своей короткой шпаги и сильным движением сжал ее, шпага поднялась, оттопырив полу его бледно?голубого сюртука; его черные волосы лежали волнистыми блестящими прядями по обе стороны дорожки пробора, лицо казалось, как всегда, бледной маской, но ярко розовели кончики нежных, маленьких ушей.
– Мы ждем, сэр Роберт, – тихо и настойчиво сказал Свифт.
Оксфорд рассмеялся своим слабым, высоким, несколько удивленным смехом:
– Но, мой дорогой виконт, мой дорогой Джонатан, разве все это так трагично? О, я совершенно уверен, что все будет хорошо, все будет хорошо…
И неожиданно и несмело прозвучало:
– Может быть, вы завтра пообедаете со мной, мой дорогой Джонатан?
Медленным, трудным, старческим движением Свифт поднялся с кресла и, опустив голову, пошел к двери.
У порога остановился:
– Граф Оксфорд, виконт Болинброк, джентльмены, я завтра же покидаю Лондон. Свидетелем ожидающей вас катастрофы я быть не могу и не хочу.
Широко распахнув дверь, он чуть не сшиб с ног подслушиваюшую Эбигейл.
Это был конец. В мае 1714 года, после восьмимесячного пребывания, он покинул Лондон, бежал из Лондона.
Бежал не из трусости, хотя Свифт не был физически храбрым человеком, но потому, что был этот завоеватель человеческих душ стыдливым, чувствительным, тонкокожим и уязвимым человеком и непереносимым было для него зрелище похмелья на пиру, на том пиру, где не он ли считал себя хозяином!
Но хозяин должен платить по счету; нет, не в том смысле, что ему лично что?либо угрожает – для этих опасений время еще не пришло, а в том смысле, что пора наконец открыть глаза и понять свою роль в истории прошедших лет.
А понять это лучше в уединении.
Не в Дублине, на своем новом посту, найдет он это уединение; скрыться в Ирландию – значит подвести черту под этой страницей своей жизни. Но разве заполнена уже страница, разве ясен итог, разве нет ощущения, что чего?то еще не хватает?
И он удаляется к своему другу, пастору Гири, в его приход в Верхнем Леткомбе, в графстве Беркшир – несколько десятков миле от Лондона.
Становится зрителем участник, но не решается покинуть зритель зала театра и шепчет указания актерам из темной глубины.
В полном уединении проводит Свифт в Леткомбе июнь и июль читает, гуляет, вспоминает и постепенно, неохотно, уклончиво подводит итоги.
Пока еще – защитительные итоги, в стиле грустной формулы, а все?таки я во всем был прав!
Он пишет здесь последний свой в этом периоде жизни памфлет: «Некоторые вольные мысли о нынешнем положении вещей». Примечательный памфлет!
В политическом плане это – развитие крайней программы Болинброка: он требует полного удаления вигов из всей системы правительственного аппарата, энергичной борьбы с «денежными интересами», решительных мер в отношении армии – вопрос этот был одним из пунктов конфликта Оксфорда и Болинброка: высший командный состав армии был в лагере вигов, и Оксфорд не решался выступить против него; Свифт же с характерным своим антимилитаризмом вообще восставал против армии как постоянного организма. И естественно, требовал Свифт в этом памфлете обеспечения интересов англиканской церкви.
Типичная, в общем, болинброковская программа, без основного, однако, ее звена, без краеугольного камня всей постройки Болинброка – отстранения ганноверской династии. Более того: с полной искренностью и во власти стремления создавать свою иллюзорную действительность посвящает Свифт красноречивейшие строки в этом памфлете доказательству того, что министерство всецело стоит за ганноверскую династию, что с воцарением этой династии связан успех развиваемой программы.
С упорством отчаяния стремится Свифт начертить квадратный круг или круглый квадрат. Но это чертеж смертельно усталого человека. Бессильная меланхолия от сознания безнадежности – таков подтекст памфлета. И за спокойствием логического рассуждения не слышно голоса непреклонной свифтовской страсти, не прорывается возглас торжествующего сарказма, устало суровое негодование, и не звучит радость битвы. Катастрофа неизбежна, но, верный себе, видит ее причину Свифт не в объективных обстоятельствах, а в характере людей, все тех же Оксфорда и Болинброка, которых, увы, бесцельно убеждать забыть свои разногласия и в этот последний, двенадцатый час…
Катастрофа пришла, предваренная, однако, высокоиронической интермедией.
Торжествует победу Болинброк! И спешно шлет курьера Свифту.
27 июля 1714 года королева отняла у Оксфорда «белый жезл», крикнув, что он «пьяница и бездельник». Болинброк – хозяин положения, первое лицо в государстве.
Тут же, немедля, формирует он новое министерство из крайних тори, откровенных сторонников «претендента». В письме Свифту, отправленном сейчас же, требует он немедленного его приезда; теперь, как никогда, нужен этот могучий союзник, думает Болинброк, и теперь, когда страна находится перед фактом уже почти совершившимся, можно будет открыть союзнику секретные замыслы этих лет, сдернуть завесу с краеугольного камня, посвятить Свифта в грандиозный болинброковский план. Конечно же, Свифт согласится! Ведь успел же Болинброк в первый буквально час своей власти взять у королевы ордер на выдачу Свифту тысячи фунтов из королевского казначейства (об этом сообщается в письме)…
А в дальнейшем – разве не поймет Свифт, какие перед ним блестящие перспективы! Если Болинброк будет английским Ришелье при «претенденте», ставшем королем, то кому, как не Свифту, быть «серым кардиналом» за спиной английского Ришелье…
Так не понимать Свифта (тысяча фунтов!) мог, конечно, только Болинброк.
Но нет у Свифта времени оскорбиться предложением Болинброка или соблазниться предложением Болинброка (в письме своем обещал также Болинброк обеспечить Свифту английское епископство), ибо того же 28 июля получает он и другое письмо: от отставного министра Оксфорда, удаляющегося в добровольное изгнание в свое поместье в Херфордшире, с предложением разделить с ним его вынужденное уединение.
Что выберет Свифт?
Об этой своей ночи с 28?го на 29?е не оставил Свифт признаний, но 29?го пишет он письмо – результат этой ночи проверки и раздумий.
Не в Лондон это письмо, не Болинброку и не Оксфорду; в Дублин оно адресовано, архиепископу Кингу, с просьбой о продлении своего отпуска, ибо он намерен перед возвращением к своим служебным обязанностям в Дублин провести некоторое время с Оксфордом в Херфордшире.
Таков был выбор Свифта.
Мгновенно понял он, что победа Болинброка – не его победа. И, поняв это, не понял ли он тем самым, какой жалкой иллюзией были эти четыре года? Не мог не понять, ибо катастрофа Болинброка была и катастрофой Свифта.
Да, катастрофа Болинброка! Вот она – в нескольких строчках второго его письма Свифту, полученного третьего августа:
«Граф Оксфорд покинул свой пост во вторник, а в воскресенье королева умерла… Что это за мир, и как издевается над нами судьба!»
Развязка была поистине драматико?иронической.
30 июля у Анны начался последний приступ смертельной ее болезни, 1 августа она умерла. Двух этих дней было достаточно, чтобы виги целиком овладели положением, создали свое временное правительство, захватили все командные посты в стране и объявили, согласно закону о престолонаследии, Георга I Ганноверского королем Англии. Были бы безнадежны все попытки сопротивляться, да они и не предпринимались в этот момент – все живые силы страны стояли за вигов. Партия тори была раздавлена.
А через несколько месяцев Оксфорду и Болинброку было предъявлено обвинение в государственной измене.
И если справедливость обвинения в отношении Оксфорда, заключенного в Тауэр, не удалось доказать, то Болинброк молча признал его, бежав во Францию и приняв пост «министра иностранных дел» у «претендента», еще не оставившего своих надежд.
Вот он, счет, предъявленный Свифту!
О, если б дело обстояло лишь так, что он и его друзья оказались побежденными поворотом политических судеб!
Но ведь дело обстояло не так!
Грубо, цинично обманут Оксфордом, а в особенности Болинброком в важнейшем вопросе о тайных сношениях с «претендентом»; все эти годы был в положении жалкого орудия, ворчливой нянькой, которую не пускали дальше передней, – вот как обстояло дело.
«Опекун»?
«Беспомощен, как слон…»
Но если вдобавок беспомощный слон обманут этими мышами, то он к тому же и комический слон!
«Я видел письмо декана Свифта, – пишет Арбетнот Попу, – его благородный дух не сломлен, и, хотя побежденный, он сохраняет свою суровую выдержку и готовит удар по своим противникам». Такова первая реакция Свифта на события, и она естественна – побежден, но не обманут.
Однако готовившегося «удара» не последовало, когда стало ясно, что не только побежден, но и обманут, осмеян в самом глубоком, интимном стремлении своем, которому и не четыре года, а больше десяти лет, – стремлении взять в руки метлу, чтоб подметать Бедлам!
Как трудно, как бесконечно мучительно признать, что он действительно так осмеян, унижен, запакощен…
Так трудно, что Свифт и не решился этого признать, по крайней мере в публичных своих высказываниях.
Через три года, в 1717 году, когда нельзя уже было сомневаться в справедливости обвинений, предъявленных если не Оксфорду, то Болинброку, Свифт пишет:
«Я могу убедить лишь тех, кто склонны верить мне на слово: будучи в течение почти четырех лет в самых близких и постоянных отношениях с людьми у власти как в области деловой, так и личной, я ни разу не слыхал от них ни слова в защиту интересов „претендента“, а между тем я все время был особо заинтересован именно в этом вопросе. И если что?нибудь в этом смысле предпринималось, то у меня должно было быть очень мало здравого смысла или мне должно было очень не везти, если у меня не возникло хотя бы подозрения по этому поводу! Можно скрывать свои планы, но вряд ли кому?либо удалось при наличности такой близости скрыть свои мнения. Я никак не могу поверить, что они (Оксфорд и Болинброк) всегда маскировались, находясь со мной… И хотя все сказанное мной имеет значение лишь постольку, поскольку существует личное доверие ко мне, я заявляю, что никогда не изменю своего мнения по этому вопросу».
«Слишком трудно признать!» – слышится в этом крике изнемогающей гордости, в этой горькой жалобе загнанного в тупик человека.
Пусть Свифт действительно в последовавшую четверть века жизни своей не признал, что «изменил свое мнение». Но уже теперь, осенью 1714 года, на пути в Дублин, в Ирландию, ту Ирландию, куда он столько уже раз возвращался побежденным, но в первый раз возвращается и униженным и обманутым в цели, и смысле своей жизни, – уже теперь он знает: грозный счет ему предъявлен.
И не кем?либо, а самим собой: он и кредитор и должник.
И если он сторицей не оплатит счета, что ж, значит, он жалкий банкрот, этот Джонатан Свифт, мечтавший «совершенствовать человечество».
Был оплачен грозный счет сторицей, около десятка лет понадобилось для этого Свифту.

Глава 14 Свифт объявляет перерыв
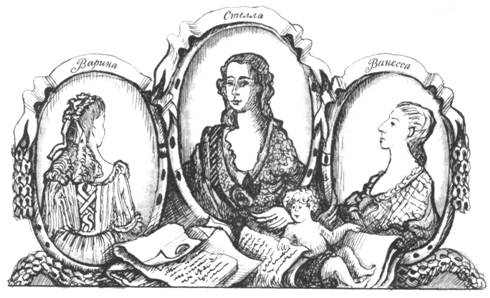
Что такое побои – известно всем; но что такое любовь – до этого еще никто не додумался.
Гейне
Если его сердце принадлежит другой – могила будет моим брачным ложем!
Шекспир
Друзья! О, друзья Свифта – при его жизни, а особенно после смерти его! Как они его любили и как старались по этой, очевидно, причине сделать его жизнь «интереснее», чем она им казалась.
Но чем же определяется «интерес» человеческой жизни?
Издавна известно всем «друзьям», которые так охотно превращаются в сплетников, особенно когда они друзья великого человека, что этот интерес определяется заключенной в жизни «тайной» – и тем более привлекательна и волнующа тайна, чем большую роль в ней играет половая жизнь человека и все, что с нею связано…
Мистификации Свифта в его общественной, публичной жизни – благодарный материал для любителей тайн. Но что сравнится с радостью их любопытства, когда проникают они в его частную, спрятанную жизнь… Сколько загадок загадал он тут любопытному человечеству, а самой увлекательной и таинственной из них как не считать ту, что сопряжена с таинственными именами: Варина – Стелла – Ванесса!
Обсуждается волнующая загадка. В романтических исследованиях и документальных романах, в догадках средней гениальности и домыслах глубокой проникновенности. Обсуждается она с азартным волнением, словно читаешь детективный роман, лишенный конца; обсуждается она с пошловатым хихиканием – так хихикают лакеи, подсматривая через замочную скважину в спальню своего хозяина; обсуждается она с торжественной псевдоученостью педантов от науки.
Увы! Напрасно все! Не разрешена мучительная загадка и по сей день.
Как печально и гневно смеялся бы Свифт, ознакомься он хоть с одним из сочинений, посвященных этой загадке, и как удивленно подумал бы он:
«Странно, однако… Как раз тут не было никакой загадки, как раз тут все было как нельзя более просто…»
Не было загадки! А три знаменитые сцены, служащие тремя краеугольными ее камнями?
1716 год. Дублин. Библиотека архиепископа дублинского Кинга, одного из лучших друзей Свифта в этот период. Входит в библиотеку без доклада другой друг Свифта, доктор Дилэни. Вздрагивает Дилэни: мимо него и как бы не замечая его, проносится вихрем Свифт, он объят жесточайшим волнением, лицо его трагически скорбно, опрометью, не оглянувшись, не вымолвив ни слова, выбегает он из комнаты.
– Что здесь случилось? – спрашивает охваченный тревожным недоумением Дилэни.
Склонил свою старческую голову на грудь архиепископ Кинг, горячие слезы льются из его глаз…
– Сэр, вы только что видели перед собой самого несчастного человека на свете, – отвечает Кинг, – но заклинаю вас, никогда, ни словом не заикайтесь о том, что вы видели, и не спрашивайте ни у кого о причинах его несчастья!
Дилэни, однако, заикнулся. Ибо о высокотрагической этой сцене рассказал потомству все тот же Дилэни. Можно ему верить, а можно и не верить.
Но любители?детективы, посвятившие свой досуг разгадыванию семейных тайн Свифта, предпочитают верить.
Предпочитают потому, что с этой сценой связывают они целый комплекс догадок и основную догадку о том, что сцена случилась непосредственно после тайного брака, заключенного между Свифтом и мисс Эстер Джонсон – Стеллой; брак этот совершил, согласно догадке, тот же Кинг, но именно в тайном порядке – свидетелей брака не найдено, никаких письменных документов о нем не осталось.
Но если он и был, этот брак, то в какой мере это важно?
Оказывается, для того нужен был брак, чтоб получила свое психологическое звучание вторая узловая сцена в комплексе загадок.
1723 год. Апрель. Поместье, называющееся «Аббатство Марли», в округе Селбридж, поблизости от Дублина. Обширный сад. Старый мрачный дом со стрельчатыми окнами средневекового монастыря. Одиноко и печально живет в этом доме тридцатитрехлетняя женщина Эстер Ваномри – Ванесса.
Склонив голову, сидит она в напряженном ожидании. Подняла голову, прислушалась, подошла к окну. Она не ошибается, она слышит топот копыт. И вот уже слышны в саду быстрые, гневные шаги. Она бросилась к двери… Да, это он, декан собора св. Патрика, роковой человек ее жизни, Свифт…
Гневно ворвался он в комнату… О, какой у него вид! «Когда природная суровость его лица увеличивалась от приступа его гнева, не было человека, который мог бы устоять перед пылающим его взглядом, нахмуренным лбом, сжатыми губами…» В руке его небольшой пакет. Он подошел к ней молча. Она отшатнулась. Пробормотала замирающим голосом:
– Это вы! Я так рада – прошу вас, садитесь…
Он молча смотрит на нее, все тем же неумолимым, безжалостным взглядом. Кровь отливает от ее лица, руки дрожат. С силой бросает он на стол пакет, медленно разжимает губы, мрачно произносит всего несколько слов, безжалостных, как стук топора, – это слова о том, что никогда в жизни он больше ее не увидит. Она падает в кресло. Не взглянув на нее, он повернулся, уходит. Прошла минута. И слышен удаляющийся, замирающий топот копыт. Пакет на столе. В пакете – письмо. Письмо написано рукой Эстер Ваномри – Ванессы и адресовано в Дублин, Эстер Джонсон – Стелле. Через несколько недель Эстер Ваномри умирает от неизвестной причины.
Эффектная сцена. Беда лишь в том, что неизвестно – была ли она в действительности или не была. Но если она и была, то ведь происходила она без свидетелей, а сообщил о ней потомству, неизвестно из каких источников, все тот же Дилэни.
Но сошлось большинство разгадывателей тайн на том, что сцена эта была, а также и на том – очень удобно все это укладывается в стройную концепцию, – что в данном роковом письме спрашивавала Ванесса Стеллу, действительно ли она, Стелла, находится в браке со Свифтом. Оскорбленная Стелла, продолжают отгадыватели, пожаловалась Свифту – остальное все понятно.
И следует третья сцена. Не столь эффектная, но зато печальная.
Январь 1728 года. Свифт у постели умирающей, по?видимому от туберкулеза, Стеллы. Он склонился над ней, он что?то прошептал! Она ответила – четко и выразительно, очевидно специально для того, чтобы это было слышно в соседней комнате:
– Слишком поздно…
Свифт вышел из комнаты. А через несколько дней Стелла умерла.
Об этой сцене поведала потомству некая дама, друг Свифта, Марта Уайтвей, состоявшая при нем в качестве покровительницы больного старика в последние годы его жизни; она?то, по ее словам, и была в соседней комнате. И драматическое восклицание Стеллы, сообщает почтенная Марта, было ответом (тут идет уже откровенный домысел) на предложение Свифта Стелле объявить наконец миру о заключенном в 1716 году их тайном браке.
Но увы, установили исследователи семейных тайн, что как раз в эти дни конца января 1728 года Марты Уайтвей не было в Дублине. А другой друг Свифта, священник Шеридан, авторитетно сообщает, что он?то присутствовал при одной из последних бесед Свифта и Стеллы и что дело обстояло как раз наоборот: Стелла умоляла Свифта согласиться на обнародование брака, а он категорически отказался это сделать.
Итак, можно верить или не верить почтенной Марте, можно верить или не верить не менее почтенному Шеридану. Дело вкуса или, вернее, надобности: как кому нужно для его разгадки заманчивой тайны, так тот и верит.
Друзья Свифта – Дилэни, Шеридан, Оррери – поработали хорошо: они позаботились о том, чтобы дать богатый материал добровольным детективам, упражнявшим свое остроумие на расшифровке тайн, завещанных, по их мнению, Свифтом потомству. Ведь помимо этих и подобных сцен воспроизводят они и домыслы еще более эффектные, возникшие еще при жизни Свифта, все на ту же соблазнительную тему об его интимных отношениях с двумя женщинами.
Воспроизводят, конечно, с оглядкой, с усмешкой, с сожалительным покачиванием головой, с тем пафосом негодующего отрицания, за которым скрывается: о, это, конечно, невероятно, но все же, знаете ли, нет ведь дыма без огня…
А самый упорный из домыслов – склонны ему верить и серьезные исследователи – очень удобно объясняет и возникновение «Гулливера», и вообще «человеконенавистничество» Свифта, а тем более его личные дела: Свифт, как вежливо выражаются стыдливые биографы, «страдал органическим дефектом, делавшим невозможным для него нормальную половую жизнь», то есть, невежливо говоря, страдал половой импотенцией. Богатая, конечно, гипотеза. Непонятно только, почему же в таком случае те же биографы считают его морально виновным в безвременной кончине одной женщины и в страдальческой жизни другой…
Есть и другие гипотезы. Не столь богатые, но также обидные. Гипотеза о том, например, что Свифт вообще был развратник, еще в молодости заболевший венерической болезнью. Очень приятно было воспроизвести эту гипотезу об очень неприятном человеке, с тем, конечно, чтобы тут же негодующе ее опровергнуть.
И если не столь обидна, то зато как интересна следующая гипотеза: оказывается, Свифт был незаконным сыном сэра Уильяма Темпла, и вдобавок незаконной дочерью этого же сэра была Стелла! И случилось так, что узнал об этом Свифт как раз после тайного своего бракосочетания со Стеллой… Ну как же в таком случае не «самый несчастный человек на свете…». И как же, узнав об этом обстоятельстве, не написать в качестве мести человечеству «Гулливера»!
Она плетется и дальше, неопрятно?липкая сеть психологических домыслов и фантастических догадок, в различных сочетаниях переплетаются три женских имени – имя Варина присоединяется к именам Стелла и Ванесса… Друзья Свифта, особенно в последние годы его жизни, жадно шепчутся по углам, а после смерти его сервируют всю эту стряпню в своих воспоминаниях и биографиях под аккомпанемент лицемерно?скорбных покачиваний головой.
И опять создается традиция. Уже не только Свифт?«человеконенавистник», уже не только Свифт?«карьерист», возникает еще один облик Свифта – «мастера извращений» – психологических, а то, пожалуй, и физических, Свифта – «мучителя» невинных женских сердец.
«Всякий читатель знает двух женщин, которых Свифт любил и которым причинил он вред, знает так, как будто он их видел своими глазами. У кого в душе нет образа Стеллы! Кто может быть равнодушен к ней? Нежное и прелестное создание, чистое и преданное сердце! Что вам с того теперь, когда вы уже сто двадцать лет покоитесь рядом с тем, чье безжалостное сердце заставляло ваше так мучительно биться любовью и скорбью, что вам с того, что теперь весь мир восхищается вами, печалится о вас! Тихая женщина, такая прелестная, такая любящая, такая несчастная! Бесчисленны ваши защитники, от поколения к поколению переходит традиционная легенда о вашей красоте и судьбе, мы вдумываемся и мы следуем шаг за шагом за вашей трагедией, вашей прекрасной любовью, вашей чистотой, постоянством, скорбью, вашим кротким мученичеством! Вашу судьбу мы знаем наизусть. Вы – одна из святых английской истории».
Бесцелен спор по существу с автором этих строк, почтенным романистом Уильямом Теккереем. И не в том даже дело, что договорился тут талантливый художник до пошлости, размешанной в сиропе. Характерно, что Теккерей, а за ним и десятки других, воспроизводя созданную Дилэни, Шериданом, Оррери традицию, с искренним благородством возмущаются «жестоким мучителем» Свифтом, превращая его в этакого Джека – потрошителя женских сердец.
Но гораздо примечательней и интересней теккереевских ламентаций на тему «Свифт и женщины» фольклорная легенда на ту же тему, родившаяся в дублинских низах вскоре после смерти Свифта.
«Декан Свифт был великий человек… очень острый язык у него был, и страшно любил он женщин… Однажды ночью послал декан Джека за женщиной, и случилось так, что Джек привел к нему в гостиницу черную женщину, и не видел ее декан до утра, а когда увидел утром ее, подумал он, что это дьявол. И прогнал он Джека. „За что тебя прогнали?“ – спрашивает Джека мать. „Он меня послал за курочкой?молодкой, а я привел ему наседку“, – ответил Джек. Был сын у декана Свифта, и был он замечательным мастаком насчет женщин, и был другой сын у декана, и прозвали его Огневым…»
Далеко Теккерею до художественной лаконичности и острой фантазии этой «биографической новеллы». А что касается соответствия ее действительности, свифтовским ли биографам заботиться о таких пустяках: ведь многие из них с трогательной серьезностью воспроизводили слухи о таинственных незаконных детях Свифта…
Нет дыма без огня! И весь этот густой, удушливый, подчас и зловонный дым, дым от усердной этой стряпни, скрывающий за плотной пеленой своей простую житейскую и элементарную психологическую правду о личной жизни Свифта, возник и осел он в веках лишь потому, что современники Свифта, и особенно его друзья, никак не могли примириться, что Свифт, любивший Стеллу и связанный с ней тридцать почти лет, не пожелал связаться с ней узами законного, нормального, христианского, гласного брака! Отсюда все: затаенная злоба и гласная клевета, фантастические сплетни, лицемерные сожаления, психопатологические изыскания, эффектные легенды, детективные догадки…
Проще все это, гораздо проще. И в данной области своей жизни Свифт не мог и не хотел насиловать себя, идти на компромиссы со своею этической концепцией.
С 1715 по 1723 год литературно?общественная деятельность Свифта – за одним лишь исключением – как бы прекратилась. Жизнь шла налаженно, банально, внешне спокойно, сводясь к выполнению обычных служебных функций декана собора. А за тем – Стелла, немногочисленный круг дублинских знакомых, писание шуточных стихов, переписка с лондонскими друзьями – и все.
Казалось, исчерпал себя Свифт. Но в действительности лишь вовнутрь ушла огненная активность, тлея под пеплом и ожидая часа взрыва. И вот эти годы передышки и позволяют ознакомиться с очень простой, совсем незамысловатой и психологически достаточно ясной историей отношений Свифта со Стеллой и Ванессой.
Но нужно начать эту историю с упоминания имени мисс Джен Уоринг, в письмах к ней называет ее Свифт – Варина.
С этой сестрой своего университетского товарища Свифт познакомился еще в Кильруте, маленьком ирландском местечке, в те дни, в 1695 году, когда, занимая скромную должность приходского священника, всматривался он в мир, когда он начинал или собирался начать свою «Сказку бочки».
Состоялось знакомство, началась легкая влюбленность. И не таким уж новичком был Свифт в этой области. Еще в студенческие свои годы в Дублине увлекался он ночными похождениями – многочисленны и суровы были взыскания за плохое поведение, налагавшиеся на него и кузена его Томаса университетским начальством. А по выходе его из университета, за те несколько месяцев, что провел он у своей матери в Лейстере, настолько он увлекся некоей девицей Бетти Джонс, что шел даже разговор о браке… Шел слух еще о какой?то девице – известно лишь, что звали ее Элизой, – возможно, что это все та же Бетти…
Вполне нормальный молодой человек, возможно слишком порывистый и очень наивный. Легкая влюбленность вполне естественно переходит в затяжное увлечение, появляется упрямое, капризное желание жениться на мисс Уоринг.
А она?
Конечно, против ухаживания молодого священника никак не возражала мисс Джен Уоринг – Свифт и красив, и интересен, уже тогда его речь увлекательна и властна. Но все свидетельства о мисс Уоринг сводятся к тому, что была она практической девицей, мещаночкой себе на уме. Он еще очень беден, этот Свифт, виды его на карьеру неопределенны… Не отпускать его, держать на привязи, кокетничать, завлекать, но о браке говорить еще рано, подождем, посмотрим… Ведь он не уйдет! Правда, говорят, он очень учен, этот секретарь важного вельможи, и действительно, мисс Джен не понимает и десятой доли его бурных речей, но – хитро улыбается мисс Джен, с ученым мужчиной как раз легко справиться умной девушке…
А Свифт нетерпелив и порывист. Он не хочет, не может ждать. Она противится? Он говорит, завоюет ее единственным свойственным ему оружием – в отношениях ли со всем миром или с одной женщиной в этом мире, – разумом, логикой.
Два письма Свифта к мисс Джен Уоринг – одно от 1696 года, другое от 1697 года – рассказывают, как завоевывал Свифт свою «Варину».
«Нетерпение свойственно влюбленным… Всякий добивается того, что считает своим счастьем. Страстное желание – как болезнь, и понятно, что люди подобно тому, как они хотят избавиться от болезни, ищут средств удовлетворить свое желание. Я страшно страдаю от этой болезни… то, что составляет сейчас предмет моих желаний, я чувствую, ускользает от меня… Отчего вы не презирали меня с самого начала? Ваше сострадание сделало меня еще более несчастным».
Логика несколько школьная, красноречие, пожалуй, слишком ученое. Но в общем – влюбленный как влюбленный, наивный, даже глуповатый. Как не улыбнуться мисс Джен, читая эти строчки: не уйдет, он на крепкой веревочке!
«Конечно, Варина, у нас слишком пренебрежительное мнение о радостях, сопровождающих подлинную, честную и безграничную любовь; но либо природа и наши предки грубо обманывают нас, либо все остальное под луной – пустяки по сравнению с ней. Сопротивляться с самого начала силе наших влечений – это такое самоотречение, которое может прослыть даже добродетелью… но у любви есть то свойство, что она особенно заманчива в крайностях своих».
Сухой, ученый трактат… Мисс Джен, конечно, было не заметить, как молодой мыслитель стремится обобщить свой опыт, создать этическую норму.
Но вот расширяются глаза мисс Джен, читает она несколько неожиданные, как бы иным почерком написанные строки:
«…Клянусь богом, Варина, вы гораздо более расчетливы, и у вас гораздо меньше девственной чистоты, чем у меня… Вы прекрасно знакомы с интригами и страстями – порукой в этом ваше собственное поведение. Любить и одновременно отравлять любовь излишним благоразумием гораздо хуже, чем совсем не любить. И помните, что, если вы и в дальнейшем будете отказываться стать моей, вы быстро и навсегда потеряете того, кто решился умереть – как и жил – вашим».
Пока очень обычна и примитивна вся история. Вот разве только причуда у Свифта. Правда, когда любят, всегда дают прозвища своим возлюбленным – уменьшительные, ласкательные. Если Джен – значит, Дженни, Дженет, Джи, но почему – «Варина»? Единственный необычный штрих в этой обычнейшей истории.
Два с лишним года проходят. Джонатан Свифт получил место. Для него это почти поражение, но на сторонний взгляд ларакорский приход совсем не плох: почти триста фунтов дохода, виды на будущее, он уже, кстати, и доктор богословия. А она моложе не стала за эти годы – не пора ли дернуть за веревочку?
Она дернула. Было написано Свифту письмо в 1700 году – оно не сохранилось, дошел лишь его ответ на это письмо.
Странно, странно, что расчетливая мещаночка в клочья не разорвала это письмо.
Не посмела?
«…Как ваше здоровье? Поправилось ли оно после того, как доктора не советовали вам вступать в брак? Теперь вы думаете об этом иначе? А умеете ли вы вести домашнее хозяйство, располагая доходами, пожалуй, меньше трехсот фунтов в год? Есть ли у вас такая склонность к моей особе, что вы сумеете приспособиться к моим желаниям и способу жизни и быть при этом счастливой? Готовы ли вы подчиниться тем методам вашего духовного и умственного развития, которые я буду проводить для того, чтобы мы были интересны друг другу и не скучали в те моменты, когда мы не ходим в гости или не принимаем гостей? Сумеете ли вы относиться к окружающим с любовью, интересом или безразличием сообразно тому, как я к ним отношусь? Буду ли я иметь такую власть над вашим сердцем, или сможете ли вы настолько владеть вашими чувствами, чтобы быть всегда в хорошем настроении в моем присутствии? Настолько ли вы добры, чтоб уметь ласковыми словами рассеять плохое настроение, могущее возникнуть из?за жизненных мелочей? Будет ли для вас та дыра, куда судьба забросит вашего мужа, желаннее, чем большие города без него? Таковы вопросы, которые я всегда имел в виду предложить той, с коей я намереваюсь связать мою жизнь; и если вы можете в чистосердечии ответить на них утвердительно, я буду рад иметь вас в своих объятиях, невзирая на то, красивы ли вы, богаты ли вы. Чистоплотность, во?первых, деловитость, во?вторых, – это все, что я требую».
Если не знать, что строки эти написаны Свифтом, как не сказать, что писал их тупой мещанин, филистер, педант, самовлюбленный и ограниченный человек!
Однако под мещанской деловитостью и эгоцентрической сухостью письма не кроется ли злая, мистификационная свифтовская издевка? Ведь в такой же манере написан спустя несколько лет «Проект об уничтожении христианства»…
И не только издевка.
Понимает, конечно, Свифт, что утвердительные ответы на анкету ничего не означали бы. И в какое затруднительное положение поставили, бы Свифта ответы мисс Уоринг – да, согласна, да, согласна!
Но он ничем не рисковал. Был он уверен, что утвердительных ответов не последует, что вообще не последует ответов, – и на этом кончается существование в истории мисс Джен Уоринг. Но был он также уверен – и тут скрытый смысл для самого Свифта этого странного письма, смысл более глубокий и важный, чем мистификационная издевка, – что есть рядом с ним женщина, которая ответила на такую анкету – ранее того, как она была задана, – ответила всем существом своим, светлой радостью и прекрасной любовью; и ей?то просто не приходилось задавать эти вопросы, все было ясно само собой…
Ибо, адресуя эти строки Варине – мисс Джен Уоринг, рассказывает Свифт о самом себе, в деловитых и сухих формулах, об отношении к нему мисс Эстер Джонсон – Стеллы…
Не Эстер, а Стелла.
Пустяк. Не больше как пустяк. Однако характерен он для человека, для которого любить женщину – это значит создать ее всю, вплоть до необычного имени, заново и – в мечтах хотя бы – по образу и подобию своему. В отношении Варины дело и ограничилось одним лишь именем, но не в отношении Стеллы.
Эстер Джонсон родилась в 1681 году – Свифт старше ее на четырнадцать лет. Мать ее – камеристка, старшая горничная у леди Джиффард, сестры сэра Уильяма Темпла, а отец неизвестен. Но есть достаточно оснований предположить, что девочка была незаконной дочерью сэра Уильяма. Тут характерен и тот факт, что она за время своего детства и отрочества находилась в особом положении, и тот факт, что в завещании своем оставил ей сэр Уильям довольно значительную сумму, не упомянув и словом о ее матери. Не так это, впрочем, важно, и нет данных утверждать, что именно это обстоятельство обратило внимание Свифта – сначала в Шиине, а потом в Мур?Парке – на хорошенькую черноглазую девочку, бегавшую по саду.
Был он сам еще очень молод, был обидчив, чувствителен, нелюдим и, помимо всего прочего, очень одинок. Проводить время со способным, приятным, неглупым ребенком, следить за ее ростом, помогать ее развитию, отыскивать подходящие для нее книги, обучать ее сложному искусству английской орфографии (и никак не удалось ему научить ее грамотно писать) – все это Свифту не только интересно, но и приятно… В такое развлечение можно втянуться, такое развлечение можно полюбить…
А объект развлечения, смышленая девчонка, конечно, нежными, по?детски влюбленными глазами привыкла смотреть на своего не то учителя, не то друга.
Время шло. Восьмилетняя становится семнадцатилетней, а ему – не то учителю, не то другу – тридцать один.
Столь же естественно, сколь и незаметно, отношения их приобретают новый характер.
«Сказка бочки» написана на предмет «совершенствования человеческого рода», но как не увидеть, что до «человеческого рода» нужно еще добраться, а вот один человек перед ним налицо… И этого человека он действительно сделал, воспитал, старался и старается совершенствовать, учить, на него влиять, превратить его в своего, свифтовского человека.
Человек этот – молоденькая, хорошенькая девушка? Тем лучше. Любовь? Бесспорно. Свифт – молодой, здоровый мужчина. Ему принципиально дорога именно такая любовь – умная, сознательная, оправданная свифтовским разумом, включающая в себя такой важный для Свифта элемент овладения душой человека, – разве можно сравнить ее с чисто физическим, а потому и унизительным для Свифта влечением к Варине…
А она?
Но как же восемнадцатилетней девушке не влюбиться в этого сильного, яркого, мужественного человека, да еще если эта девушка жила все отроческие свои годы под его властным моральным и умственным влиянием.
Сэр Уильям умер. Эстер Джонсон – совершеннолетняя, получает благодаря завещанию материальную независимость. Положение ее при вдове сэра Уильяма и сестре ее леди Джиффард, у которой мать Эстер остается в услужении, не может быть приятным.
И когда Свифт поселяется в Ларакоре в 1700 году, Эстер Джонсон связывает с ним свою судьбу, следует за ним в Ирландию, поселившись неподалеку, в городке Триме.
И в этот момент – несколько раньше или позже – пишет он свое примечательное письмо к Варине.
При всей внешней его сухости, при бухгалтерской как бы рассудочности – это ликующее, победное письмо.
«Вы, Варина, ничтожное, расчетливое существо, смели думать о нашей общей жизни… Но нужно быть совершенно другим, „моим“ человеком, чтоб иметь на это право, а вы лишь случай, но, Варина… другой же человек есть, почти мной созданный, не только в смысле имени. И для него то, что вам и другим может показаться сухой, эгоистической анкетой, содержание всей жизни. Отойдите в сторону, Варина, исчезните, уступите место Стелле».
«И, – это уже не к Варине обращение, а к самому себе, – тем более могу я гордиться Стеллой, что она, которая с такой восторженной радостью, одним дыханием ответила бы „да“ на все вопросы анкеты, она знает, что я не намереваюсь сочетаться с нею браком».
Так возникает знаменитая свифтовская «тайна», для разгадки которой были мобилизованы на протяжении двух веков психологи и психопатологи, неврологи и психиатры, исследователи, литературоведы, романисты, драматурги.
«Почему Свифт не женился на Эстер Джонсон? Это же противоестественная нелепость!»
Совершенно верно, нелепость. Гораздо естественней было бы, если б ларакорский священник, имеющий уже определенное социальное положение, прочный и вполне достаточный для семейной жизни доход, совершил бы нормальный обряд бракосочетания с женщиной, которую он любит, в любви которой он уверен, вместо того, чтобы, давая пищу сплетням, идя на всяческие бытовые и прочие неудобства, жить раздельной с ней жизнью. Идти на «не освященную церковью» связь священнику этой церкви, да еще без всяких видимых к тому причин, – как же не нелепость!
Вот и ищут всяческих скрытых причин – вплоть до «импотенции» или «кровного родства».
Но причины – они тут же, рядышком лежат, и они достаточно видны для каждого, кто хочет видеть.
Разве не высказывался Свифт неоднократно и очень категорично в своих сочинениях, что он вообще против брака…
Но ведь это «сочинения», а то – жизнь!
В этом все дело: никак нельзя отделять у Свифта его жизнь от творчества, нельзя прокладывать водораздела между жизненным и творческим его путем. Нет писателя Свифта вне человека Свифта – и наоборот: полное слияние. Едиными движущими мотивами определяется интимно?личная его жизнь и общественно?литературная его деятельность. Свифт – везде Свифт и всегда Свифт, нет у него двойной бухгалтерии, раздельно веденных счетов. Поступать так, как он считает правильным, – вот единый моральный закон, управляющий всеми сторонами его жизни, и в мелочах и в важных вещах; избегать компромиссов с самим собой – вот его властная цель.
Творчество его – это и есть поступок. «Сказка бочки», «Размышления о палке метлы», памфлеты «Экзаминера», затем ирландские памфлеты, «Гулливер» – все это его поступки, психологически такие же закономерные, как и жизненные его поступки в узком смысле слова. И если Свифт заявляет не однажды в своих сочинениях, что он вообще против брака как формы общественной жизни, то он и не заключает брака.
Не более нелепа эта, на взгляд мещанина, «нелепость», чем его поведение в отношении лидеров вигов в 1704–1709 годах и его «опекунство» в 1710–1714 годах. И нет потому оснований выделять именно эту нелепость, представлять ее более загадочной, чем все остальные «загадки» жизни Свифта…
Целостность личности в большом и малом – она всегда таинственна, загадочна и в конечном счете нелепа для тех, кто компромисс и измену себе считает – осознанно или инстинктивно – основным законом жизни…
С радостью думаешь, что Свифт не обманулся в Стелле: победа его личности и мировоззрения была в данном случае полна и ничем не отравлена.
Конечно, Эстер Джонсон, молодая, привлекательная, неглупая девушка, легко могла бы вступить в обычный брак; будь на месте Свифта кто угодно другой – разве не настаивала бы она на нормальном в таком случае ходе вещей?
Но Свифт воспитал ее. Сумел ее убедить, что он – Свифт – человек своей мысли, своей морали. Сумел внушить ей уважение к своей мысли и морали. А здравый смысл, четкий и сильный, у нее был. Чутье психологической реальности у нее было. Она и сделала все выводы из положения: можно уйти от Свифта, но если действительно содержание твоей жизни – твое чувство к нему, тут уж не приходится думать о том, чтобы все было «как у людей». Решение было принято мужественно и сознательно. Где же здесь «трагедия», где «мученичество»?
И о решении своем Стелла не пожалела. Ибо предоставилась ей однажды легкая возможность отказаться от решения, изменить судьбу, и без колебания не только отбросила она эту возможность, но как бы еще раз сказала Свифту и себе: «Да!»
Молодой священник, живший в городе Триме, Уильям Тисделл, введенный Свифтом в дом Эстер Джонсон – дело было в 1704 году, – решил, что эта привлекательная дама будет хорошей для него женой. В отношения Свифта и Стеллы он не был посвящен и добросовестно полагал, что Свифт не более как старый друг, чуть не опекун двадцатитрехлетней девушки. Тисделл намекнул Стелле о своих намерениях, намек был встречен, очевидно, уклончиво. Он решил тогда обратиться к посредничеству Свифта – тот был тогда в Лондоне. Характер письма Тисделла можно понять по ответу Свифта. Свифт написал обстоятельный ответ, и Свифт понимал, что у Тисделла все основания показать его письмо Стелле, возможно, и хотел этого, для того и писал.
Холодной, язвительной мистификацией дышит это письмо.
Напрасно думает Тисделл, что он, Свифт, в какой?либо мере ему соперник. Он, Свифт, глубоко уважает даму, о которой идет речь. Настолько, что будь он расположен жениться, то не мыслил бы для себя другой жены, чем мисс Джонсон, – «ибо я не встречал еще человека, беседы с которым представляли б для меня такую ценность, как беседы с ней… я должен прибавить, что хотя мне приходилось встречаться чаще, чем это бывает обычно с людьми нашей профессии, с дамами, занимающими высокое положение, я ни у кого не видел такого юмора, здравого смысла и верной оценки людей и событий, как у нее». Но поскольку он, Свифт, сам не намерен вступать в брак, то – «мое сожаление о потере такого друга, как она, не будет стоять на ее пути, и я отнюдь не хочу мешать ее устройству в жизни, ибо брак считается необходимой и важной вещью в жизни, а ореол девственности тускнеет с течением времени в чьих бы то ни было глазах, кроме моих». Продолжая мистификацию, он пишет далее, что говорил с матерью мисс Джонсон о желательности этого брака и писал ей самой об этом: «Я ссылаюсь на мои письма к ней, свидетельствующие, что я вел себя как ваш друг в этом деле, хотя я и ограничиваюсь чисто пассивной ролью». Письма, о которых говорит Свифт, не сохранились. Но это письмо его Тисделлу – оно ведь косвенно Стелле адресовано. И, будучи жестокой мистификацией в отношении Тисделла (Свифт не умеет ревновать, но ведь злобной издевкой насыщены его строки), письмо это в известном смысле жестокий вызов, брошенный Стелле. Он опять подтверждает, что не изменит своего плана и образа жизни, и предупреждает – еще не поздно! – она может изменить свое решение и из Стеллы стать обычной женщиной, вступившей на нормальный для каждой женщины житейский путь. Свифт стремится к полной ясности в отношениях, и послание к Тисделлу – оно в той же тональности, что и письмо к Варине.
И если бы приняла Стелла предложение Тисделла, пересмотрев свое решение, что ж, Свифт отошел бы в сторону: значит, он ошибся, значит, мисс Эстер Джонсон не стала до конца Стеллой.
Тисделл не мог оценить письмо иначе как аргумент в свою пользу, если показать его Стелле; у Стеллы – не пройди она школу Свифта – были все основания жестоко оскорбиться, ознакомившись с письмом. Но именно теперь отвечает она Тисделлу решительным отказом. Тут и кончается инцидент, если не считать юмористически?злобных стихов по адресу Тисделла, написанных Свифтом, – с особым удовольствием читает он их Стелле.
Итак, Свифт еще раз победил, верней, подтвердил свою прежнюю победу… Мисс Эстер Джонсон осталась до конца дней своих Стеллой.
Вот где гордость и радость ее жизни! Обычный, средний, в сущности говоря, человек, понимает она, что быть подругой Свифта – это и трудно, и прекрасно. Страшен и труден бытовой уклад их жизни: он в Ларакоре, она с компаньонкой в Триме; лишь когда он в отъезде, переселяется она в Ларакор, в его дом, чтобы вновь вернуться в Трим по его приезде; они очень редко видятся наедине; в присутствии друзей Свифта, часто посещающих домик в Триме, они не более как добрые знакомые; сплетни маленького городка все же не оставляют ее в покое. Но что это значит для нее, если она единственное существо на свете, с кем до последних глубин близок такой особый, такой обаятельный в своей властности и всегда новый в своей обаятельности человек! Он саркастичен и зол даже с ней, но безмерно богата его нежность, речь его жестка, но каждое слово входит в душу, волнует, звенит, синий блеск его глаз иногда нестерпим, но какое счастье, когда оттаивают и смеются ласково глаза…
Свифт сумел через несколько лет завоевать обаянием своей личности все лондонское общество, в эти ларакорские годы лучи его обаяния направлялись к одному лишь существу, чувствовать себя центром этих лучей – где большее счастье!
Стелла была счастлива в эти годы…
А он с нею откровенен, как ни с кем. Весь смысл жизни Свифта был в том, чтоб во всеуслышание сообщить миру свое, ничем не разбавленное мнение о мире. Но только говоря со Стеллой, мог разрешить он себе роскошь думать вслух о себе в этом мире. Так родился его внутренний монолог – «Дневник для Стеллы».
Красноречиво и значительно все, что непосредственно относится к Стелле в этом «Дневнике». Но еще чаще, с гордостью еще более торжествующей и радостью еще более острой, вчитывается и перечитывает Стелла свифтовскую беседу с самим собой, к которой приглашает он ее прислушаться.
Уже много лет она со Свифтом, когда получает первые письма «Дневника»: ей ли не понять и не знать обостренную чувствительность его во всем, что касается деталей повседневного его быта, его инстинктивное стремление спрятать даже от себя печальное сознание, что и он, Свифт, подвержен мелким, вульгарным человеческим слабостям; в своем общении со Стеллой до «Дневника», вероятно, удавалось Свифту их скрывать, если не от себя, то от нее, – тут и нужно искать одну из причин ненависти его к браку, – и вот теперь Свифт весь перед ней, и слышит она со страниц «Дневника» самый интимный его шепот, самый затаенный крик… Конечно, никогда прежде не был Свифт так безудержно, без оглядки близок с ней, как сейчас, когда он в Лондоне, а она в Дублине, и слова его, уже ничем не огражденные, слышит она так явственно…
И тут не злорадство Стеллы – вот он такой же маленький, как мы. Все дело в высказанном им между строк «Дневника» согласии доверить Стелле все свое – вот что должно было ее вознаградить за принятое когда?то решение, если нуждается в вознаграждении любовь.
А когда она читает: «Я беспомощен, как слон», – в изумлении и восторге всплескивает она руками: он объяснил себя до конца, спутник и властитель ее жизни, и не только объяснил, он оправдал себя, если она затаенно и робко в чем?либо когда?нибудь винила его…
И любовь его к Стелле – говорил ли он раньше о ней так открыто и самозабвенно, с такой трогательной, наивной нежностью, как теперь, в этих письмах, когда сдержанности, столь присущей им в личном общении, больше нет. Может ли она усомниться в его заверениях, что дороже всего ему ее счастье? Как дороги ей эти заверения, высказанные как бы и ворчливо: Свифт стеснялся и по инерции пытался маскировать свое чувство даже и тут, и нельзя все же было не заметить, как сильно его чувство; нельзя не заметить тех редких, но очень подчеркнутых строчек откровенной, грубоватой даже эротики, написанных условным «маленьким языком»… Была ей дорога и привычная его манера подшучивания над ней, подчас даже обидного, – и над тем, что напрасно он беседует с ней о политике, в которой она ничего не понимает, и над тем, что слишком много орфографических ошибок в ее письмах – Свифт их аккуратно подсчитывал, в одном письме он приводит целый список, – и было ей дорого в следующем письме его тревожное опасение – не обиделась ли Стелла всерьез, ведь он только шутил!
Но ведь все это обычно до банальности?
В том?то и дело. И если бы вдобавок письма Свифта были адресованы не Эстер Джонсон, а Эстер Свифт, – вся так называемая «свифтология» лишилась бы сенсационнейшей своей темы.
А как же Ванесса?
История отношений Свифта и Ванессы, возможно, и печальная, но, увы, в основе своей также весьма обычная история, отнюдь не таящая в себе каких?либо тайн.
У миссис Ваномри, вдовы богатого голландского негоцианта, был в Лондоне открытый дом, на Бэри?стрит, по соседству с первой лондонской квартирой Свифта. Сыновья ее жили вне Англии, две дочери, старшая, Эстер, родившаяся в 1690 году, и младшая, Молли, были с нею.
Дом миссис Ваномри не великосветский – дом жены голландского негоцианта, не более, но очень гостеприимный и, очевидно, приятный дом; вина и яства не сходят со стола, в гостиной толпятся посетители – знатные лорды, светские молодые люди, высшие чиновники, поэты, епископы и каноники, военные банкиры из Сити… Бывать у миссис Ваномри, дамы веселой и легкомысленной, если и не особо почетно, то приятно, а иногда и полезно.
Свифт был введен в этот дом приятелем своим Эразмусом Льюисом еще в 1709 году. Когда он приехал в Лондон в конце 1710 года и случайно поселился вблизи миссис Ваномри, знакомство возобновилось и укрепилось, Свифт стал постоянным посетителем. И в «Дневнике» он на первых порах аккуратно сообщает о посещении своих «соседей», о том, что достаточно часто, пожалуй, не меньше двух раз в неделю, там обедает. Вполне естественно, если нет особых дел в городе, если день дождливый, почему не пообедать у любезных соседей? Тем более что это сокращает лондонские расходы, о чем он даже с гордостью упоминает в «Дневнике».
Но Стелла как?то сразу заинтересовалась этими его знакомыми: жизнь Свифта в Лондоне привлекала внимание всего дублинского общества, и не один ведь Свифт писал из Лондона в Дублин. И в своем письме № 8 Свифт с очевидной досадой отвечает на какой?то насмешливый намек Стеллы в одном из ее писем: «Что вы имеете в виду, намекая на даму, живущую неподалеку от меня, у которой я часто обедаю? Что за черт! Ведь вы знаете лучше меня, с кем я обедал ежедневно за все эти дни…»
Как бы там ни было, еще в одном письме, за № 14, в записи от 14/II 1711 года, мельком упоминается о дочери миссис Ваномри, и снова беглое и небрежное упоминание о ней через полгода – 14 августа. И это все.
Стелла как будто не должна беспокоиться. Не сообщил ли он ей в одной из ранних записей, еще от 10 ноября 1710 года: «Мне теперь не нравятся женщины так сильно, как раньше (МД, как вы знаете, не женщина!)…» Свифт, пожалуй, не догадался, что Стелла могла и обидеться на заключенную в скобки его фразу – для него она была комплиментом, но не было у ней тогда оснований не верить в правдивость свифтовского высказывания.
Однако, если б зашла речь на эту тему хотя бы в середине 1711 года, Эстер Ваномри могла бы, вздернув свой пикантный носик, знающе улыбнуться.
Бойкая, миловидная, совсем не глупая девица. Пишет стишки, знает языки, читала даже Монтеня в оригинале. Умеет мило болтать и о политике и о литературе, наслышавшись и о том и о другом от своих гостей; быстро все воспринимает своим совсем не глубоким и не оригинальным, но очень подвижным умом; чрезвычайно тщеславна, капризна, кокетлива, скрыто истерична и, конечно, имеет значительный успех в обществе и думает лишь о том, как бы его увеличить…
Доктор Свифт постоянный посетитель их дома. Он даже хранит там, не полагаясь на Пагрика, свое вино; когда он живет летом за городом, не имея городской квартиры, то у них в доме находится его нарядный парик и парадный костюм…
И он совсем не тот мрачный, неприятный священник, с которым познакомилась она в 1709 году. Ведь он сейчас самый модный человек в городе… Она знает, как горды знатные дамы, когда удается им залучить его в свои салоны; она слыхала, да и была свидетельницей своеобразного его обхождения со знатными дамами, хотя бы с приятельницей ее Энн Лонг, королевой Кит?Кэт клуба, та ведь чуть не в рот ему смотрит; и она осведомлена, конечно, какую роль играет Свифт в государственных делах; наморщив лоб, она читает и «Экзаминер», и его памфлеты, и стихи и даже умеет вовремя процитировать их…
Несомненно, он очень интересный, самый интересный среди ее знакомых человек. И даже внешне интересный: гордая посадка головы, синий блеск холодных глаз, саркастическая улыбка, мерная, властная речь…
Она знает, что его очень боятся. Но только не она. На его остроту всегда находит она ответную, насмешливая его суровость парируется кокетливой ее веселостью. Активно флиртует и кокетничает с ним и видит – в этом не может ошибиться женщина, – что это ему нравится!
Так оно и было.
Конечно, понимает Свифт: нравится ему эта девушка, помимо прочего, также и потому, что очень изящно, очень тонко умеет ему льстить.
Как внимательно и вдумчиво слушает она политические его рассуждения, как умеет оценить их улыбкой, ловкой репликой! Великолепная ученица!
Ученица? У него уже была одна… Что ж, будет и другая, проходящая ускоренный курс обучения. Эстер становится Ванессой.
Победителем людей чувствует себя Свифт в эти лондонские годы. Должен ли он отказываться еще от одной победы, от этого наслаждения, еще раз ему представившегося в жизни: воздействовать на молодую душу, повторить опыт со Стеллой.
Не весь опыт, не до конца. Этого Свифт как раз не хочет.
Но разве влюбленность ученицы в учителя является необходимым элементом опыта?
В 1713 году, по возвращении в Лондон из Ирландии, было им написано своеобразное произведение. «Каденус и Ванесса» – называется оно. Большая поэма, без особых поэтических достоинств, но с несомненными достоинствами автобиографического свойства – рассказана в ней история отношений Свифта и Эстер Ваномри: Каденус – анаграмма латинского «Деканус» – декан.
Жестокая поэма – откровенностью своей и безжалостной объективностью. Жестокая и в отношении Ванессы и самого себя.
Свифт рассказывает, как было дело. Конечно, он и не думал, влюбляться в молодую девушку. «Он мог хвалить, одобрять, уважать, но не понимал, что значит любовь» (поэма говорит о нем и о ней в третьем лице). Но Ванесса говорит Каденусу: «Ваши уроки нашли самую незащищенную мишень – они были направлены к разуму, а попали в сердце». Каденус мечтал об интеллектуальной дружбе между учителем и ученицей, но Ванесса, сообщает поэма с бестактной откровенностью, «Ванесса, которой едва минуло двадцать, мечтает о сорокачетырехлетнем священнике, находит воображаемую прелесть в его глазах, почти уже ослепших от чтения, Каденус не кажется ей стареющим, болезненным человеком, она считает его молодым, в голосе его она слышит музыку…».
Он возражает, он всегда смотрел на нее как на дочь и гордился ею, как гордится учитель талантливым учеником, но напрасно: Ванесса настаивает на своем чувстве.
Но она горячо спорит с ним, применяя ту самую логику и красноречие, коим он научил ее. И –
«К своему стыду и скорби, Каденус не сумел оказать сопротивления пламени Ванессы, не хватило сил счесть ее аргументы ложными… и заговорила его гордость: ведь он предпочтен десяткам молодых красавцев… еще в школе учат, что лесть – это пища дураков, но иногда и умные люди не могут устоять, чтоб не проглотить кусочек этой пищи».
Сопротивление его ослабевает, продолжает поэма, а Ванесса становится все настойчивее, заявляя, что «положение их изменилось, и теперь она будет учителем, а он учеником». Что же последовало? – Поэма не оставляет сомнений на этот счет. «Одержала ли Ванесса победу – это останется для мира тайной, и человечество никогда не должно узнать, продолжала ли нимфа, чтобы нравиться своему пастушку, вести себя на романтический лад, или в конце концов он снизошел до того, чтобы поведение его имело в виду более земные цели, и таким образом, любовь и книги слились воедино». Зачем было написано это своеобразное, верней, ни с чем не сообразное произведение? Было оно написано для одного человека – Ванессы – и имело очень конкретную и четкую цель: существовать не как литературное произведение, а быть поступком, как были поступками письмо к Варине, письмо к Тисделлу. И не вина Свифта, что было оно воспринято единственным своим читателем только как литературное произведение.
Да и для окружающих отношения эти не составляли уже секрета: вслух говорилось об ожидаемом браке Свифта и Ванессы, и она делала все возможное, чтоб, во всяком случае, «свет» знал, что она возлюбленная Свифта: это и льстило ее тщеславию, и было также одним из способов, чтобы добиться брака… Тайна, которую «гарантировал» Свифт в поэме, была ей, по существу, не нужна.
Но Свифт не хотел этого брака. И не только из?за Стеллы. И не только потому, что он вообще против брака. Но и потому, что он Ванессу не любил.
В середине 1713 года Свифт покидает Лондон. Ванесса протестует, но поездка необходима, и притом ведь он вернется, и тогда…
И забрасывают Свифта письмами с требованиями возвращения не только Льюис и друзья его, но и Ванесса.
Он возвратился. И пишет свою поэму. Читает ее Ванессе. Свифт считает, что его поэма?поступок должна ликвидировать всю историю, закончить отношения его с Ванессой. Вот ведь он все объяснил; неужели же объективный рассказ о происшедшем не убедит героиню поэмы, что нужно все это кончить? Свифт верен себе, он просто не мог иначе поступить, все свое отношение к миру, всю деятельность свою строит он – так кажется ему – на примате разума, почему же должен он изменить себе в данном случае? Памфлетом «Поведение союзников» сумел он убедить всю Англию в необходимости заключения мира, как же не сумеет он убедить памфлетом «Каденус и Ванесса» всего одну лишь женщину в деле менее «существенном»? Разве она не ученица его, разве не гордится он ее интеллектом – об этом достаточно говорится и в поэме.
И с фантастической наивностью думает Свифт, что теперь, когда он так прекрасно и откровенно все объяснил, Ванесса все поймет, улыбнется, расстанется со своими иллюзиями и планами, и они расстанутся в общем друзьями: от «интеллектуальной дружбы» с Ванессой он и не думает отказываться…
Все учел Свифт, сорокашестилетний мыслитель, перед светлым разумом, силой убеждения, ясностью мышления которого склонялась вся Англия, – за исключением одной лишь мелочи: Ванесса влюбилась в него так, как может влюбиться капризная, своенравная, избалованная девушка.
Свифт начинает тогда понимать: не так все это просто.
Но нынешнее пребывание его в Лондоне ведь временное, так или иначе он вернется в Дублин, и эта история, непонятно и неприятно затянувшаяся, окончится сама собою…
И однако умирает мать Ванессы, она – совершеннолетняя, одинокая, не считая младшей сестры, и, кстати, ею унаследована в Ирландии земельная собственность, требующая наблюдения. Почему бы ей не переехать на постоянное жительство в Ирландию?
Свифт уезжает в Леткомб. Ванесса появляется и там, нарушая его уединение. Достаточно неприятная беседа происходит между ними: всей силой своей логики доказывает он ей, что бессмысленна ее поездка в Ирландию. Возможно, он обещает ей, что вернется в Англию.
Не помогают уговоры. Каприз, оскорбленное самолюбие, упрямство – как это ни назвать – превратились в истерическую страсть, сжигающую девушку. Через три месяца после того, как Свифт вернулся в Дублин на свой пост, приезжает в Дублин и Ванесса.
Печальная, во многом неприятная, банальная в общем история. Нет нужды, да и возможности отрицать: не украшает она жизнь Свифта. И однако не остался ли он и здесь самим собою, не желая считаться с тем, что, по его мнению, внешняя оболочка жизни; действуя, рассуждая и думая так, как если бы шла речь не о человеческих отношениях, а об умозрительной, отвлеченной проблеме…
Печально?банальная история. И очень медленно, унизительно?надоедливо движется она к неизбежному своему концу.
Не триумфатором появляется Свифт в Дублине осенью 1714 года. Появляется моральный лидер побежденной, раздавленной, обвиненной в государственной измене партии. И естественно, что местное английское общество – политические, церковные, чиновничьи круги, все они виги, – встречает его не только со злорадством, с насмешкой, но даже и враждебной демонстрацией, а в лучшем для него случае с чувством жалости, и это обидней и страшней всего…
Приезд Ванессы был иронически?добавочным штрихом неприглядной картины.
Можно ли скрыть этот скандальный факт? И тогда уже, в 1700 году, появление Стеллы в Ирландии дало пищу сплетням. Но ведь был тогда Свифт мало кому известным провинциальным священником, теперь он человек, о котором знает вся Англия, занимающий почетный пост в англиканской церкви, – какой простор для злорадной, гадкой сплетни!
И тут же – Стелла! Что скажет Стелла?
Свифт мог высоко держать голову, когда могуществом своей личности, силой убеждения, сумел он внушить Стелле, что ради любви и уважения Свифта должно отказаться от принятых норм общежития. Но было так лишь потому, что всем сердцем и кровью своей поверила Стелла, что Свифт – иной, особый…
А теперь? Оказался ее герой – как этого не увидеть – отнюдь не иным, совсем не особым… Но тогда рушится вся система их отношений, существующая столько лет…
Свифт не может этого не бояться. И это должно волновать его больше всего.
И по?человечески естественно, что первая реакция его на приезд Ванессы – резкое, грубое письмо, направленное ей. Он заклинает ее оставить Ирландию, с жестокой откровенностью заявляет он, что не намерен с ней встречаться.
Ванесса все же добилась свидания. Свифт не преминул повторить ей устно свое письмо. Но, по?видимому, он все же не устоял перед ее натиском, дал ей кой?какие обещания. И она пишет:
«Вы просили меня успокоиться, сказали, что будете встречаться со мной, поскольку сможете. Вы должны были сказать – поскольку сумеете преодолеть свое нежелание, поскольку вспомните, что я существую на свете. Но если вы и в дальнейшем будете так относиться ко мне, вам не придется долго беспокоиться. Я не могу описать мои чувства с того момента, как видела вас, я уверена, пытка была бы для меня легче, чем эти ваши убийственные, убийственные слова. Я решила было умереть, не увидев вас больше, но, увы, это решение, к вашему несчастью, длилось недолго».
Прочитав эти унизительные и унижающие строки, должен был Свифт застыть в тягостном недоумении перед загадочностью человеческой психики, побуждающей умного и гордого человека так писать, так чувствовать, превратиться в такое жалкое существо, вернее, жалкого, капризного ребенка, у которого отняли игрушку. Но ведь тут одержимость! И одержимость любовью – она такова же во всех ее признаках, как одержимость мистическим экстазом, о которой писал он с таким ненавидящим презрением уже давно – семнадцать лет назад – в «Сказке бочки».
Что же это значит? Только то, что он ошибся. Ванесса оказалась не «Ванессой». Как и Болинброк оказался не тем, что он думал, как и он сам – Свифт – оказался после четырех своих лондонских лет обманутым дурачком.
Что ж делать? Признать, что увеличился предъявленный ему жизнью счет, который нужно уплатить…
Развязка печально?банальной истории затянулась. А пока все как?то обошлось.
Очень разумное поведение Стеллы этому помогло.
Как не подходит она для навязанной ей роли «мученицы»! Разумный, волевой, большим запасом здравого смысла и характерного юмора наделенный человек, многому научившийся у Свифта – такова Стелла. И она понимает Свифта, как никто. Ведь только она читала «Дневник для Стеллы». И если смотрела она раньше на Свифта снизу вверх, то теперь, когда предстала перед ней «беспомощность слона», умеет она несколько по?другому видеть его: с теми же любовью и уважением, но и с некоторой дозой покровительственного, снисходительного материнского отношения, а пожалуй, и с легкой примесью нежной иронии. Ревнует, конечно, но умеет это делать шутя, насмешливо. Ведь понимает она – тут не только ум, но словно шестое чувство, – что самое страшное и ненавистное для Свифта – сознавать себя в моральной зависимости, в плену чего бы или кого бы то ни было. Не опасна ей Ванесса, ибо покушалась Ванесса на Свифта, угрожала его независимости.
И, понимая это, Стелла прячет ревность и не стремится обострять положения. Несколько лет спустя, когда ее соперница и физически сошла со сцены, в присутствии Стеллы и в присутствии, конечно, Свифта, кто?то сказал, намекая, очевидно, на свифтовскую поэму:
– Как прекрасно писал декан об этой даме!
– Декан умеет писать прекрасно о чем угодно, даже о метле, – ответила Стелла.
Стелла прекрасно поняла Свифта: раз он писал о ее сопернице, та уж не может быть ей опасна.
Итак, на время все как?то обошлось. Свифт в ли годы – 1715–1719, – по?видимому, лишь изредка встречался с Ванессой, а она, казалось, примирилась с создавшимся положением.
Отношения же Свифта со Стеллой мирны и нормальны в их плане жизни. Как и раньше, они живут раздельно: он в своем деканском доме при соборе, она, все с той же мисс Дингли, в отдельной квартире. Видятся они часто, но по большей части на людях. В летние месяцы они проводят по нескольку недель за городом у друзей. Еще больше времени уделяет Свифт своим летним путешествиям по Ирландии, всегда в одиночку. Почти ежегодно Свифт пишет в день рождения Стеллы посвященные ей стихи. Незачем искать в них поэтических достоинств, но и не ища, нельзя в них не найти подтверждения того, что Стелла есть и была единственной подругой Свифта… «Хотя мы уже не можем, как раньше, строить планы на долгую жизнь, но в быстром беге времени мы с радостью можем оглядываться на пройденный путь». А в другом подобном стихотворении Свифт, думая, по?видимому, что доставляет он особое удовольствие Стелле, сообщает ей конфиденциально, что вот и возраст ее и комплекция увеличились вдвое и что хотя потеряла она прелесть молодости, но зато настолько же она поумнела! Стелле оставалось лишь улыбнуться, прочтя этот грандиозный в глазах Свифта комплимент…
Улыбнуться, подумав, как наивен до сих пор остался этот человек, умнее которого она и не видела и не могла себе представить; быть может, погрустить, подумав, что все же не может этот необыкновенный человек понять до конца ее – такую обыкновенную женщину…
Но трагически страдать из?за того, что не может она до сих пор назвать себя законном женою Свифта?
Для очень многих исследователей жизни Свифта необходим был предполагаемый брак просто для того, чтобы высокодраматически прозвучал финал истории Свифта – Стеллы – Ванессы, для того, чтобы глубокомысленное обоснование получила эффектная сцена, рассказанная Дилэни…
Но была ли эта сцена в реальности?
Начиная с 1719 года отношения Свифта и Ванессы несколько оживились. В этом году Ванесса переселилась из Дублина в поместье «Аббатство Марли» в округе Селбридж; судя по сохранившейся переписке их за период 1719–1722 годов, он неоднократно посещал ее, и она венчала его лаврами, росшими в саду. Письма Ванессы немногим отличаются от истерического крика 1714 года: те же жалобы и упреки, те же мольбы о свидании и обвинения в равнодушии. Письма Свифта сухи и корректны, он подчеркивает дружеское к ней отношение, с иронией, добродушной и бестактной, вспоминает о былых днях их романа, дает ей деловые советы.
В 1721 году умерла сестра Ванессы, она осталась совершенно одинокой; может быть, поэтому притязания ее становятся настойчивее.
Имело ли место тайное бракосочетание 1716 года, было ли Ванессой написано письмо Стелле в апреле 1723 года – разве все это важно? Разве не могли найтись у Свифта другие побудительные поводы, чтобы разрубить, наконец, узел?
В апреле 1723 года Свифт отправился в свое обычное летнее путешествие, быть может, особо важное для него именно в этом году – ведь осенью возвращается он к бурной активности, – а в мае 1723 года Ванесса умирает от неизвестной причины в возрасте тридцати трех лет. Таковы установленные факты. Но нужно добавить к ним еще один – при внешней своей незначительности, он бросает дополнительный, но яркий луч света на печально?банальную и никак не загадочную историю.
За месяц до смерти, очевидно после последнего свидания со Свифтом, Ванесса сделала новое завещание, отменяя прежнее, по которому довольно значительное ее состояние было завещано Свифту. Наследниками по последнему завещанию были Джордж Беркли, которого она видела всего один раз в жизни, и другой ее друг. Кроме того, она потребовала в завещании, чтоб ее наследники опубликовали находящуюся у нее поэму «Каденус и Ванесса» и письма к ней Свифта.
Оскорбленная, несчастная женщина отомстила. Жалкая месть.
Ванесса перестала существовать значительно раньше того, как умерла девица Эстер Ваномри. И эта смерть не касается Свифта, он в ней не виноват. Виновен он в другом – что не устоял он перед приятной щекоткой самолюбия, перед дешевым удовлетворением мелкого тщеславия тогда, в лондонские годы.
А теперь он может свободно вздохнуть и поблагодарить девицу Ваномри за то, что вычеркнула она его имя из своего завещания. Она правильно поступила – он не может получать денег от девицы Ваномри, ему бы пришлось все равно от них отказаться.
И теперь – ни слова больше о ней, как бы ее ни звали. И во всей дальнейшей своей жизни никогда, нигде не упоминает больше Свифт об Эстер Ваномри, о Ванессе…
Довольно. Кончился объявленный Свифтом перерыв. Перед изумленной Ирландией, Англией, континентом предстает Свифт в новом и последнем своем облике – грозного бойца. Становится престарелый декан дублинского собора человеком сурового негодования, другом народа, врагом поработителей…
.
Комментарии (1)
Обратно в раздел литературоведение
|
|
