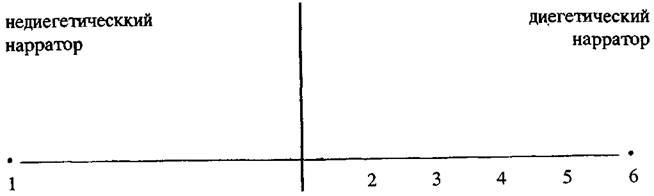Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Ваш комментарий о книге
Шмид B. Нарратология
Глава I. ПРИЗНАКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
1. Нарративность
Классическое и структуралистское понятия нарративности
Объектом нарратологии является построение нарративных произведений. Что означает слово «нарративный» ?
Нарративность характеризуют в литературоведении два различных понятия. Первое из них образовалось в классической теории повествования, прежде всего в теории немецкого
происхождения, которая тогда еще называлась не нарратологией1, a Erzahlforschungили Erzahl-theorie(теория повествования). В этой традиции к нарративному или повествовательному разряду произведения причислялись по признакам коммуникативной структуры. Повествование, противопоставлявшееся непосредственному драматическому исполнению, связывалось с присутствием в тексте голоса опосредующей инстанции, называемой «повествователем» или «рассказчиком». (Ввиду колебания русской терминологии между двумя понятиями, производными от названий жанров, впредь я буду называть эту опосредующую инстанцию чисто техническим термином нарратор, уже не подразумевающим никакой жанровой специфичности2.) В классической теории повествования основным признаком повествовательного произведения является присутствие такого посредника между автором и повествуемым миром. Суть повествования сводилась классической теорией к преломлению повествуемой действительности через призму восприятия нарратора. Так, один из основоположников современной теории повествования, немец-Термин «нарратология» был разработан Цветаном Тодоровым (1969, 10; ср. Ян 1995, 29). 2 См.: Ильин 1996а. 12
кая исследовательница Кэте Фридеманн3, противопоставляет повествовательный модус драматической передаче действительности:
«Действительным» в драматическом смысле является событие, которое имеет место теперь... «Действительным» же в смысле эпическом является, в первую очередь, не повествуемое событие, а само повествование (Фридеманн 1910, 25).
Тем самым она опровергает взгляды немецкого романиста и теоретика Фридриха Шпильгагена (1883; 1898), который, под предлогом объективности, требовал от эпического автора полного отказа от включения повествующей инстанции, т. е. требовал, по словам Фридеманн, создания «драматической иллюзии»:
<Нарратор, derErzahler> представляет собой принятое кантовской философией гносеологическое предположение, что мы постигаем мир не таким, каким он существует сам по себе, а таким, каким он прошел через посредство некоего созерцающего ума (Фридеманн 1910, 26).
Еще и в настоящее время находятся теоретики, определяющие специфичность повествования присутствием нарратора. Известный австрийский исследователь Франц Штанцель открывает свою книгу «Теория повествования» (1979), в которой он подводит итог предыдущих работ (1955; 1964) и связывает их с текущей теоретической дискуссией, определением «опосредствованности» (Mittelbctrkeit) как жанрового признака повествовательных текстов. Вслед за Штанцелем в новейшем русском «Введении в литературоведение» определяющим признаком повествования выдвигается «опосредованность» (Тамарченко 1999а, 280).
Второе понятие о нарративности, которое легло в основу настоящей работы, сформировалось в структуралистской нарратологии. Согласно этой концепции решающим в повествовании является не столько признак структуры коммуникации, сколько признак структуры самого повествуемого. Термин «нарративный», противопоставляемый термину «дескриптивный», или «описательный», указывает не на присутствие опосредующей инстанции изложения, а на определенную структуру
излагаемого материала. Тексты, называемые нарративными в
з Книга К. Фридеманн «Роль нарратора в эпической прозе» (1910) пользовалась и в России популярностью;
см. отсылку В. Н. Волошинова (1929, 132) к этому «до настоящего времени основному труду».
13
структуралистском смысле слова, излагают, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной
структурой, некую историю . Понятие же истории подразумевает событие. Событием является
некое изменение исходной ситуации: или внешней ситуации в повествуемом мире (естественные,
ащионалъные и интеращионалъные события), или внутренней ситуации того или другого
персонажа (ментальные события). Таким образом, нарративными, в структуралистском смысле,
являются произведения, которые излагают историю, в которых изображается событие.
Так понимаемая нарративность близка к «фабульности», как ее толкует Б. В. Томашевский (1925).
Но если Томашевский приписывает фабуле «не только временный признак, но и причинный»
(1925, 136) , то событийность, как она трактуется в настоящей книге, предполагает (как
минимальное условие) наличие изменения некоей исходной ситуации, независимо от того,
указывает ли данный текст на причинные связи этого изменения с другими своими тематическими элементами или нет.
Событийность и ее условия
Событие, стержень повествовательного текста, было определено Ю. М. Лотманом как «перемещение персонажа через границу семантического поля» (Лотман 1970, 282) или как «пересечение запрещающей
См., напр., определение Жерара Женетта (1972, 66): «Повествование — повествовательный дискурс [1е discoursnarratif] —может существовать постольку, поскольку оно рассказывает некоторую историю [histoire], при отсутствии которой дискурс не является повествовательным» (подобные определения: Принс 1973б; 1982, 1—4; 1987, 58; ван Дейк 1978, 141; обзор подходов к теории нарративности см.: Стэджесс 1992, 5— 67). Классический признак повествования («поскольку оно порождается некоторым лицом») Женетт относит только к дискурсу как таковому: «В качестве нарратива повествование существует благодаря связи с историей, которая в нем излагается; в качестве дискурса оно существует благодаря связи с наррацией, которая ее порождает».
Различение между временной и причинной связью элементов, которое проводится у Томашевского, восходит, в конечном счете, к «Поэтике» Аристотеля: «Большая разница заключается в том, возникает ли что-то вследствие чего-то другого или после чего-то другого» (6iacpep?i yap поАи то YiYVECT6ai табе 5ia табе п цета табе; Aristoteles. De arte poetica. 1452a, 20). 14
границы» (Лотман 1970, 288)6. Эта граница может быть как топографической, так и прагматической, этической, психологической или познавательной. Таким образом, событие заключается в некоем отклонении от законного, нормативного в данном мире, в нарушении одного из тех правил, соблюдение которых сохраняет порядок и устройство этого мира. Определение сюжета, предложенное Лотманом, подразумевает двухместность ситуаций, в которых находится субъект события, их эквивалентность, в частности их оппозицию. С таким представлением принципиально совместима известная трехместная модель Артура Данто (1965), по которой основное условие всякой наррации заключается в оппозиции положений определенного субъекта (х), развертываемой в два различных момента (t-1, t-3)7:
(1) х is F at t-1
(2) H happens to x at t-2
(3) х is G at t-3
Для того чтобы в результате оппозиции ситуаций действительно получилось событие, должны быть удовлетворены некоторые условия. Штемпель (1973) называет следующие минимальные лингвосемантические условия для образования события: субъект изменения должен быть идентичен; содержания нарративного высказывания должны быть совместимы; сказуемые должны образовывать контраст, факты должны находиться в хронологическом порядке8. Даже при вы-
«Сюжетным» (т. е. нарративным) текстам Лотман противопоставляет «бессюжетные» (или «мифологические») тексты, не повествующие о новостях в изменяющемся мире, а изображающие циклические повторы и изоморфности замкнутого космоса, порядок и незыблемость границ которого утверждаются (Лотман 1970, 286—289; 1973). Современный сюжетный текст определяется Лотманом как «плод взаимодействия и интерференции этих двух исконных в типологическом отношении типов текстов» (Лотман 1973, 226).
Триада Данто, представленная в подобной форме и другими теоретиками, может уже осуществиться в последовательности лишь двух предложений (см. Штемпель 1973).
Н. Д. Тамарченко (1999в, 79—81; 2001, 171—172) определяет событие и по отношению продвижения субъекта к намеченной цели: «Событие — перемещение персонажа, внешнее или внутреннее (путешествие, поступок, духовный акт), через границу, разделяющую части или сферы изображенного мира в пространстве и времени, связанное с осуществлением его цели или, наоборот, отказом или отклонением от нее» (Тамарченко 2001,171). Однако ввиду того, что перемещение персонажа через границу или изменение его ситуации может лежать вне сферы его стремлений, а может просто с ним произойти, условие «осуществления цели» не кажется обязательным. Тамарченко, очевидно, руководствуется различием, установленным Гегелем для эпоса, между «просто происходящим» (напр., молния убивает человека) и «событием», в котором заключается «исполнение намеченной цели» (ГегельГ. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1968—1971. Т. 3. С. 470). См. также: Тюпа 2001, 20.
15
полнении таких условий нарративные оппозиции еще не обеспечивают того, что можно назвать полноценным событием в эмфатическом смысле этого слова, в смысле гетевского «свершившегося неслыханного события»9 или лотмановских дефиниций, предусматривающих пересечение некоей границы. Контраст между двумя последовательными во времени ситуациями одного и того же субъекта — это определение минималистское, покрывающее огромное количество тривиальных изменений в любом произведении. Полноценная событийность в нарративном тексте подразумевает выполнение целого ряда дальнейших условий.
Фактичность mmреальность (разумеется, в рамках фиктивного мира) изменения — это первое основное условие событийности. Изменение должно действительно произойти в фиктивном мире. Для события недостаточно, чтобы субъект действия только желал изменения, о нем мечтал, его воображал, видел во сне или в галлюцинации. В таких случаях событийным может быть только сам акт желания, мечтания, воображения, сновидения, галлюцинации и т. п.
С фактичностью связано второе основное условие событийности: результативность. Изменение, образующее событие, должно быть совершено до конца наррации (результативный способ действия). Речь идет не о событии, если изменение только начато (инхоативный способ действия), если субъект только пытается его осуществить (конативный способ действия) или если изменение находится только в состоянии осуществления (дуративный способ).
Фактичность и результативность представляют собой необходимые условия события. Без них изменение претендовать на статус события не может.
9
К Эккерману 25 янв. 1827 г. (ЭккерманИ. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986. С. 211). 16
Событийность рассматривается как свойство, подлежащее градации. В нижеследующем предлагается набор пяти критериев, делающих данное изменение более или менее событийным. Эти пять критериев проявляются не при рассмотрении встречающейся в реалистическом нарративе у Достоевского и Толстого полной событийности, а при анализе редуцированной ее формы в постреализме, прежде всего у Чехова. Событие у Достоевского и Толстого заключается, например, во внутренней, ментальной перемене и воплощается в том когнитивном, душевном или нравственном «сдвиге» (Шаталов 1974; Левитан 1976), который обозначается такими понятиями, как «прозрение» (Цилевич 1976, 56; Левитан 1976; Шаталов 1980, 67), «просветление» или «озарение» (Шаталов 1974). Реалистическое понятие о событии приобретало образцовое осуществление в «воскресении» Раскольникова, во внезапном познании Левиным и Безуховым смысла жизни, в конечном осознании братьями Карамазовыми собственной виновности. В такой модели герой способен к глубокому, существенному самоизменению, к преодолению своих характерологических и нравственных границ. Полноценная реалистическая событийность в творчестве Чехова подвергается значительному редуцированию. Повествование у Чехова во многих его вещах целиком направлено на осуществление ментального события, будь то постижение тайн жизни, познание социальных закономерностей, эмоциональное перенастраивание или же пересмотр нравственно-практических решений. Но Чехов не изображает ментальных событий, он проблематизирует их (Шмид 19916).
Мы исходим из редуцированной постреалистической событийности, чтобы получить критерии максимальной событийности, которые в реализме были сами собою разумеющимися и поэтому остались незамеченными.
1. Первый критерий степени событийности — это релевантность изменения.
Событийность повышается по мере того, как то или иное изменение рассматривается как существенное, разумеется, в масштабах данного фиктивного мира. Тривиальные (по меркам данного фиктивного мира) изменения события не образуют. Отнесение того или другого изменения к категории события зависит, с одной стороны, от общей картины мира в данном типе культуры (Лотман 1970, 282), а с другой, от внутритекстовой аксиологии, вернее, от аксиологии переживаю-17
щего данное изменение субъекта. Относительность релевантности демонстрируется Чеховым в рассказе с многообещающим для нарратолога заглавием «Событие». Все событие заключается «только» в том, что домашняя кошка приносит приплод и что большой черный пес Неро пожирает всех котят. Для шестилетнего Вани и четырехлетней Нины уже тот факт, что кошка «ощенилась», — событие величайшего значения. Между тем как взрослые спокойно терпят «злодейство» Неро, смеются даже и только удивляются аппетиту громадной собаки, дети «плачут и долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро» .
2. Вторым критерием является непредсказуемость.
Событийность изменения повышается по мере его неожиданности. Событие в эмфатическом смысле подразумевает некоторую парадоксальность. Парадокс — это противоречие «доксе», т. е.
общему мнению, ожиданию11. В повествовании как «докса» выступает та последовательность действий, которая в нарративном мире ожидается, причем речь идет об ожидании не читателя, а протагонистов. Эту «доксу» и нарушает событие. Закономерное, предсказуемое изменение событийным не является12, даже если оно существенно для того или другого персонажа. Если невеста выходит замуж, это, как правило, событием является только для самих новобрачных и их семей, но в нарративном мире исполнение ожидаемого событийным не является. Если, однако, невеста дает жениху отставку, как это случается в рассказе Чехова «Невеста», событие происходит для всех13. 10 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. Т. 5. М., 1976. С. 428.
Уже Аристотель определяет парадокс не только как «высказывание вопреки общему мнению» (Aoyoq evuvtioq так; боЦак;; Aristoteles. Topica. 104b, 24), но также и как высказывание, «противоречащее прежде пробужденному ожиданию» (ёцпроабеу бо^а; Aristoteles. De arte rhetorica. 1412a, 27). См.: Шмид 20016.
12
«Событие мыслится как-то, что произошло, хотя могло и не произойти» (Лотман 1970, 285).
Оппозиция между субъективными и объективными аспектами непредсказуемости не раз разыгрывается в рассказах Чехова. Примером может служить «Учитель словесности»: для того чтобы объясниться Марии Шелестовой в любви, Никитин должен мобилизовать все свое мужество. Возможность повести ее к алтарю кажется ему совершенно невероятным, неосуществимым счастьем. Читателю же из поведения молодой женщины нетрудно сделать вывод, что жених на сильное сопротивление не натолкнется. Сделав решающий шаг, и сам Никитин осознает, что его мнимый переход через границу был не что иное, как вполне закономерный, всеми давно уже ожидаемый поступок. 18
Релевантность и непредсказуемость являются основными критериями событийности. Более или менее второстепенными можно рассматривать следующие признаки.
3. Консекутивность.
Событийность изменения зависит от того, какие последствия в мышлении и действиях субъекта она влечет за собой. Консекутивное прозрение и перемена взглядов героя сказываются тем или иным образом на его жизни.
4. Необратимость.
Событийность повышается по мере того, как понижается вероятность обратимости изменения и аннулирования нового состояния. В случае «прозрения» герой должен достичь такой духовной и нравственной позиции, которая исключает возвращение к более ранним точкам зрения. Пример необратимых событий приводит Достоевский в цепи прозрений и озарений, характеризующих ход действия в «Братьях Карамазовых».
5. Неповторяемость.
Изменение должно быть однократным. Повторяющиеся изменения события не рождают, даже если возвращения к более ранним состояниям не происходит. Это демонстрируется Чеховым цепью бракосочетаний и связанных с ними радикальных мировоззренческих сдвигов Оли Племянниковой, героини рассказа «Душечка». Изображение повторяемости приближает наррацию к описанию. Не даром описательные жанры имеют естественную тенденцию к изображению повторяющихся происшествий и действий.
Предлагаемый набор критериев носит, разумеется, максималистский характер, что правильно отмечается В.И.Тюпой (2001, 21) . Не все изменения того или другого повествовательного произведения удовлетворяют указанным пяти критериям в равной мере. Но, как уже было сказано, событийность — это свойство, подлежащее градации, т. е. изображаемые в нарративном произведении изменения могут быть событийными в большей или меньшей степени.
14
Сам Тюпа (2001, 25—26) предлагает три свойства, которые он рассматривает как минимально необходимые для характеристики события: 1) гетерогенность, 2) хронотопичность, 3) интеллигибельность. 19
Нарративные и описательные тексты
Классическое определение нарративности не только ограничивает ее словесным творчеством, но и включает в область нарратива лишь произведения, обладающие опосредующим нарратором, игнорируя лирические и драматические тексты. Структуралистское определение включает в область нарратологии произведения всех видов (не только словесные), излагающие тем или иным образом историю, и исключает все описательные произведения. С этой точки зрения
нарративными являются не только роман, повесть и рассказ, но также и пьеса, кинофильм, балет, пантомима, картина, скульптура и т. д., поскольку изображаемое в них обладает временной структурой и содержит некое изменение ситуации. Из области нарративности исключены, следовательно, все произведения, в которых описывается преимущественно статическое состояние, рисуется картина, дается портрет, подытоживаются повторяющиеся, циклические процессы , изображается социальная среда или классифицируется естественное или социальное явление по типам, классам и т. п.
Границы между нарративными и описательными произведениями, разумеется, не всегда четки. Каждый нарратив по необходимости содержит описательные элементы, придающие произведению определенную статичность. Уже изображение ситуаций, исходной и конечной, действующих лиц и самих действий не обходится без введения описательного материала. С другой стороны, в описательные произведения могут — в целях наглядной иллюстрации данной ситуации — входить динамические элементы, событийные структуры.
Среди нарративных, по классическому определению, жанров сильным тяготением к описательности отличается очерк. Примером ненарративного, в структуралистском смысле, описания и классифицирования может служить очерк Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики», включенный Н. А. Некрасовым в сборник «Физиология Петербурга». Классифицирующий характер этого очерка явствует уже из названий глав: «Разряды шарманщиков», «Итальянские шарманщики», «Русские и немецкие шарманщики», «Уличный гаер», «Публика шарманщиков». Не все напечатанное в этом сборнике является описа-
В итеративных действиях степень событийности излагаемых изменений снижается в силу их повторяемости. 20
тельным. В некоторых произведениях появляются нарративные структуры, по крайней мере в зачаточном виде, как только в текст вводится временное измерение и раннее состояние сравнивается с более поздним.
Решающим для описательного или нарративного характера произведения является не количество содержащихся в нем статических или динамических элементов, а их итоговая функция. Но функциональность произведения может быть смешанной. В большинстве случаев доминирует та или иная основная функция. Эта доминантность воспринимается читателями не всегда одинаковым образом.
Томашевский, у которого для «фабулы», как мы видели, необходима не только временная, но и причинная связь элементов, к «бесфабульному повествованию» относит и путешествие, «если оно повествует только о виденном, а не о личных приключениях путешествующего» (1925, 136). Но и без прямой тематизации внутреннего состояния путешествующего изменение ситуации может быть изображено, путешествие может приобрести нарративный характер и в самом отборе увиденного может быть выражено внутреннее изменение видящего.
Образование нарративных структур на основе описания можно наблюдать, например, в текстах Андрея Битова. Если в рассказах сборника «Дни человека» жизнь запечатлевается в моментальных снимках, самих по себе малособытийных, то в чисто описательных на первый взгляд текстах, объединенных в сборнике «Семь путешествий», повествуется о воспитании чувств и понятий, о созревании души, очерчиваются пунктиром ментальные события (Шмид 1991а). Вообще можно полагать, что описательные тексты имеют тенденцию к нарративности по мере выявленное™ в них опосредующей инстанции. Разумеется, это нарративность, характеризующая не описываемое, а описующего и его акт описывания. Повествуемая здесь история является историей не диегетической (т. е. относящейся к повествуемому миру), а экзегетической (т. е. относящейся к акту повествования или описания), излагающей изменения в сознания опосредующей инстанции.
Как было упомянуто выше, предлагаемая в настоящей книге теория основывается на концепции нарративности как событийности. Тем не менее эта теория приложима к различным текстам, соответствую-21
щим как классическому, так и и структуралистскому понятию нарративности, т. е. объектом исследования будут словесные тексты, излагающие историю и в той или иной мере обладающие опосредующей инстанцией нарратора. В следующей схеме указаны предметы нарратологии в структуралистском смысле (полужирная и двойная рамки) и множество текстов, на котором сосредоточена настоящая книга (двойная рамка):
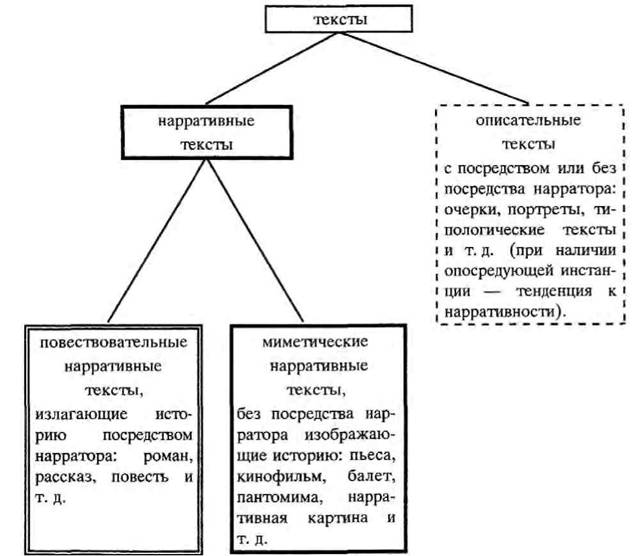
Эта схема является модификацией известной модели Сеймора Чэтмана (1990, 115), где нарратив подразделяется на «диететические» (telling) и «миметические» (showing) тексты соответственно теории Платона, различающего «диегесис» (собственно повествование поэта) и «мимесис» (подражание речам героев); о платоновской дихотомии см. ниже, гл. V.
22
2. Фикциональность Мимесис и вымысел
Чем отличается повествование в художественном произведении от повествования в житейском контексте, например от повседневного рассказывания, от сообщения последних известий по телевизору, от протокола, составленного полицией, или от репортажа спортивного корреспондента?
Один из основных признаков повествовательного художественного текста — это его фикциональность, т. е. то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным. В то время как термин «фикциональный» характеризует специфику текста, понятие «фиктивный» (или «вымышленный») относится к онтологическому статусу изображаемого в фикциональном тексте. Роман, например, является фикциональным, изображаемый в нем мир — фиктивным . Фикциональные тексты сами по себе являются, как правило, не фиктивными, а реальными18. Если противоположное по отношению к фиктивности понятие —реальность, то антонимом фикциональности является фактуалъностъ (Женетт 1990) . Термин «фиктивный», производный от лат. fingere(«образовывать», «изображать», «представлять себе», «вымышлять», «создавать видимость»), обозначает объекты, которые, будучи вымышленными, выдаются за действительные, притязают на реальность. Понятие фиктивности
содержит, таким образом, момент обмана, симуляции, который слышится и в обыденном словоупотреблении («фиктивный счет», «фиктивный брак»), где слово «фиктивный» обозначает что-то «поддельное», «фальшивое», «мнимое», имея те же коннотации, что и слова «финт» и «финтить», производные от итальянского fintaи, в конеч-
17
Это различие проводится не во всех языках. В английском словоупотреблении, напр., термин fictionalотносится как к изображающему тексту, так и к изображаемому миру.
Фикциональные тексты фиктивны, если они фигурируют в изображаемом фиктивном мире фикционального произведения, другого или — что уже является нарративным парадоксом — того же произведения (т. е. если герой романа читает тот роман, в котором он сам фигурирует, в результате чего получается структура «mise en abtme»).
19
Эгон Верлих (1975, 20) называл нефикциональные тексты «фактическими». 23
ном счете, от латинского fingere. Литературный вымысел (fictio), однако, — это симуляция без отрицательного характера, выдумка, в которой отсутствует момент ложности и обмана. Поэтому следует связывать фиктивность не столько с понятием видимости или симуляции, к чему склонны теоретики, сводящие ее к структуре «как будто» (ahoh) , сколько с концепцией изображения автономной, енутрилитературной действительности.
Такая концепция близка понятию «мимесис», как его употребляет Аристотель в «Поэтике». Аристотелевское понятие не следует сводить к значению imitcttio, «подражание» чему-то уже существующему, как оно воспринималось в эпоху Ренессанса, классицизма и реализма. Такие семантические моменты мимесиса, нет сомнений, еще можно обнаружить в употреблении Аристотелем этого понятия, унаследованного от Платона (ср. Сербом 1966,176). Но в целом «Поэтика» проникнута духом понимания мимесиса как изображения некоей действительности, не заданной вне мимесиса, а только сконструированной им самим . В трагедии, по Аристотелю, «мимесис действия (яра^гц) — это повествуемая история (цг>8о<;)», определяемая им как «составление происшествий» (аггубт^оц — или агкттаац — twv ярауцатюу; 1450а, 5, 15)22. Из рассуждений Аристотеля явствует, что достоинство мимеси-
20
Понятие фиктивности как модуса «как будто» восходит к Хансу Файхингеру (1911) и фигурирует также в теории речевых актов (Серль 1975).
21
Об аристотелевском мимесисе как понятии, обозначающем не только и не столько «подражание» (как у Платона в 10 главе «Государства»), сколько «изображение», см.: Коллер 1954; Хамбургер 1957, 6—10; Вейдле 1963; Коль 1977, 28—39. Обзор семантических аспектов и прагматических импликаций не эксплицированного в «Поэтике» Аристотеля глагола |лце'Гавоа в доплатоновском, платоновском и аристотелевском употреблении дает Нешке (1980, 76—89). Эквивалентность между мимесисом Аристотеля и современным понятием фикциональности подчеркивают Хамбургер 1957; Женетт 1991, 349; Гебауер и Вульф 1992, 81—84. Дюпон-Рок и Лало (1980) переводят мимесис как representation. Понимая мимесис, согласно его двойному значению, как «подражание или изображение [imitationourepresentation]», Поль Рикер (1983, 55—84) указывает на то, что такая репрезентация не имеет характера копии, удвоения presence, а является «деятельностью изобразительной» (activitemimetique). Соотношение понятий Аристотеля с терминами современной семиотики обсуждает X. А. Гарсиа Ланда (1998, 22—32).
22
Согласно немецкому филологу-классику Манфреду Фурману (1992, 25—26), аристотелевские понятия цибос; и прауцата означают «фабулу» или «действие» и «происшествия» или «события» (ср. также историческое объяснение понятия цибос; как «организованной структуры действия»: Каннихт 1976). Рикер (1983) переводит цибос; и прауцата как intrigueиfaits, В одном из русских изданий «Поэтики» цитированное выше определение гласит: «Подражание действию есть фабула». А под фабулой разумеется «сочетание фактов» или «состав происшествий» (Мыслители Греции: От мифа к логике / Сост. В. Шкода. М.; Харьков, 1998. С. 706). Многозначному термину «фабула» я предпочитаю термин «повествуемая история», или «история» (см. главу III). 24
са заключается не в его фактическом сходстве с некоей действительностью, а в таком «составлении происшествий», которое способно вызвать у реципиента желаемое воздействие. В случае трагедии (самом достойном виде мимесиса) оно заключается в том, чтобы «путем сострадания и страха привести к очищению от таких аффектов» (1449b, 27—28). Теория Аристотеля, преодолевающая платоновскую концепцию о третичности мимесиса как подражания подражанию , не только признает за мимесисом, понимаемым как «делание» (жощащ) (ср. Хамбургер 1957, 7—8), как конструкцию (ср. Цукеркандль 1958, 233), первичность (ср. Эльс 1957,322), но также и обосновывает его познавательную функцию (ср. Бойд 1968, 24), а тем самым его ценность. В отличие от историка, повествующего о том, что произошло, что, например, сказал и сделал Алкивиад, поэт, по мнению Аристотеля, «говорит не о том, что было, но о том, что могло бы быть в соответствии с вероятностью или необходимостью» (1451а, 36—38). Итак, предметом поэзии является не «действительно происшедшее» (та уггоцгуа), а «возможное» (та богата). Поэтому «поэзия философичнее и серьезнее истории» (1451b, 5—6).
Вымысел (ftctio), понимаемый в аристотелевском смысле как мимесис, — это художественная конструкция возможной действительности. Изображая не существовавшие происшествия, а происшествия возможные, фикция как конструкция имеет характер мыслительной модели. В последние десятилетия теория фикциональности была предметом горячих дискуссий между представителями разных направлений, таких
23
Согласно Платону, произведение искусства, поскольку оно подражает предметам видимого мира, которые, в свою очередь, являются подражаниями высшему миру идей, оказывается только «на третьем месте от истины» (Tpi-rov Ti апо тг|<; aAnSeiaq; Plato. Res publica. X. 597e. Мыслители Греции. С. 409). 25
как онтология, семантика, теория высказывания, теория речевых актов, прагматика и др. . Спор возник, прежде всего, вокруг вопроса о том, следует ли рассматривать специфический статус литературы со стороны онтологии изображаемых предметов или же со стороны прагматики изображающего дискурса. Этой альтернативе в современной науке соответствуют два направления (ср. Рюлинг 1996). С точки зрения литературоведения и философской эстетики специфика литературы трактуется как онтологическая проблема фиктивности изображаемых предметов. Под знаменем же «лингвистического поворота» в гуманитарных науках и под руководством аналитической философии все более распространяется подход, связывающий проблему специфичности литературы не с фиктивностью предметов, а с фикциональностью дискурса о них25. Особенной популярностью в наши дни пользуется теория «речевых актов» (speechacts) американского философа Джона Серля. По Серлю (1975), автор фикционального текста производит высказывания, которые имеют форму утверждения, но, не отвечая условиям утверждения, являются только утверждениями «мнимыми» (pretended). Создание видимости «иллокутивных речевых актов»26, которые автором на самом деле всерьез не совершаются, — в этом, по Серлю, существо фикциональности.
Одно из многочисленных возражений против теории Серля касается обсуждаемого им намерения автора создать видимость. Серль разли-
24 См. новейший обзор подходов: Ципфель 2001; обзоры с точки зрения прагматического подхода (Хоопс 1979) и с антимиметистской точки зрения теории возможных миров (Долежел 1998, 1—28). Непонятно, однако, почему Долежел (1998, 6—10) сводит теории, основывающиеся на мимесисе, к тезису о подражании «действительным прототипам» (actualprototypes). Праотцу миметизма, Аристотелю, подчеркивающему, как мы убедились, не подражательную, а конструктивную сторону мимесиса (ср. также Долежел 1990, 34), редукционизм «теории одного мира» был совершенно чужд. На самом деле, поддерживаемая Долежелом теория вымысла как изображения не реальных, а возможных миров не так уж далека от Аристотеля.
25 Обзор дискуссий о фикциональности литературы с позиции аналитической философии позиций дают Ламарк, Ольсен 1994; Тюрнау 1994.
26 «Иллокуция», по теории «речевых актов» (Остин 1962), — это совершаемое говорящим при помощи высказываний в определенном контексте действие (например, обещания, осуждения). Если содержание речевого акта может быть верным или ложным, то иллокуция может быть успешной или безуспешной.
26
чает два значения слова pretend(«создавать видимость»), первое из которых связано с обманом,
второе же — с поведением «как будто» (asif), где ни малейшего намерения обмануть нет. Он
утверждает, что деятельность автора характеризуется исключительно вторым значением. Следует,
однако, задуматься, адекватно ли описана миметическая деятельность автора при помощи фигуры
«как будто», всегда подразумевающей некое притворство, нечто неаутентичное.
Так, возражая Барабаре Смит (1978, 30), Доррит Кон (1989, 5—6) задается вопросом, создает ли Л.
Толстой в рассказе «Смерть Ивана Ильича» действительно «видимость, что он пишет биографию
[is pretending to be writing a biography]». По словам Кон, Толстой вообще никакой видимости не
создает: «он делает что-то, а именно сообщает своему читателю фикциональный рассказ <.. .> о
смерти вымышленного персонажа» .
Другой аргумент, ставящий под сомнение теорию мнимых иллокутивных актов, направлен против
утверждения Серля о том, что вопрос о фикциональности произведения решает не кто иной, как
автор: «то, что делает текст фикциональным произведением, — это иллокутивное отношение
автора к тексту, и это отношение зависит от сложных иллокутивных намерений автора» (1975,
325) . Ж. Женетт (1989, 384) на это отвечает: «...на наше великое счастье и вопреки правилам
иллокуции, случается и так, что именно „читатели решают, принадлежит (текст) к литературе или
нет"».
Эта полемика показывает, что спорным является также вопрос о том, какая инстанция принимает
решение о фикциональности. Согласно Кэте Хамбургер (1957, 21—72; 1968, 56—111), решает это
сам текст. Фикциональность для нее — объективное свойство текста, проявляющееся в отдельных
«симптомах». По Серлю же, определяющим является исключительно «намерение» (intention)
автора. По мнению другой группы теоретиков, фикциональность является свойством от-
27 См. также критику Феликса Мартинеса Бонати (1981, 157—159) подобной теории Ричарда Оманна (1971) о поэзии как «мнимых речевых актах» и о деятельности автора как создании видимости (pretending). Критическое обозрение pretensetheories, т. е. теорий, определяющих свойство литературы на основе создания видимости, см.: Криттенден 1991, 45—52; Ципфель 2001,187—195.
28 Одно из возражений против Серля заключается в том, что он не производит дифференциацию между автором и нарратором; ср., напр., Мартинес Бонати 1980.
27
носительным и прагматическим. Рассматривается ли данный текст как фикциональный или как фактуальный — это, по мнению этих теоретиков, результат фактического приписывания функции со стороны реципиентов, обусловленного их историческим и социальным контекстом и принятыми в этом контексте представлениями о действительном.
Признаки фикциональных текстов
Если вопрос о фикциональности решает сам текст, то фикциональный текст должен быть отмечен какими-либо объективными признаками. Такую позицию К. Хамбургер занимает в ряде работ (1951; 1953; 1955; 1957), где она утверждает своеобразие «фикционального, или миметического, жанра», к которому отнесены повествование «от третьего лица», драматургия и кино и из которого исключается не только лирика, но также и повествование «от первого лица». Фикциональный жанр отличается, по ее мнению, от противопоставляемого ему «лирического или экзистенциального жанра» целым набором объективных «симптомов». Во-первых, это потеря грамматической функции обозначения прошлого в использовании «эпического претерита» (т. е. прошедшего нарративного), обнаруживающаяся в сочетании прошедшего времени глагола с дейктическими наречиями времени (типа «Morgen war Weihnachten» — «Завтра [было] Рождество»)30, и в связи с этим вообще детемпорализация грамматических времен. Во-вторых, это соотнесенность повествуемого не с реальной Ich-Origo, т. е. с реальным субъектом высказывания, а с некоей фиктивной «ориго», т. е. с одним или несколькими из изображаемых персонажей. В-третьих, это
29 Этот жанр и тем самым вся бинарность жанровой системы отпали во втором издании (Хамбургер 1968), где повествование от первого лица фигурирует не как жанр, а лишь как «специальная форма».
30 В немецкой несобственно-прямой речи употребляются не времена глагола, соответствующие прямой речи, а времена, сдвинутые или на один шаг в прошлое (ist > war, war> wargewesen), или в сослагательное наклонение (wirdsein> wurde
sein). См. об этом главу V.
31 Центральное в теории Хамбургер понятие Ich-Origoили, точнее, OrigodesJetzt-hier-lch-Systems, восходящее к употребляемой Карлом Бругманном (1904) и Карлом Бюлером (1934) терминологии, заимствованной из геометрии, обозначает «занимаемое некоим „я" начало координат пространственно-временной системы, совпадающее с величинами „теперь" и „здесь"» (Хамбургер 1968, 62).
28
употребление глаголов, выражающих внутренние процессы (типа «Наполеон думал...») без оправдывающей оговорки.
Тезисы Хамбургер с самого начала натолкнулись на критику. Дискуссия вращалась, прежде всего, вокруг вопроса о прошедшем нарративном . Главное возражение против аргументов Хамбургер состояло в том, что все указанные симптомы, все аргументы, приведенные в пользу детемпорализации прошедшего нарративного и атемпоральности фикциональных текстов, можно свести к явлениям, связанным с взаимопересечением точек зрения нарратора и персонажа. Сочетание глагола в прошедшем времени с дейктическим наречием будущего времени является специфической грамматической структурой, свойственной несобственно-прямой речи в немецком языке. В предложении «Morgen war Weihnachten» употребление прошедшего «было» соотносится с точкой зрения нарратора, повествующего о (фиктивном) прошлом, между тем как дейктическое наречие времени «завтра» связано с точкой зрения персонажа, для которого в данный момент повествуемого действия Рождество будет на следующий день. Примеры, приведенные Хамбургер, не случайно касаются исключительно несобственно-прямой речи. Однако этот прием нарраториальной передачи текста персонажа не ограничивается повествованием «от третьего лица», как постулирует Хамбургер (1968, 249—250), а встречается закономерно и в повествовании «от первого лица» (см. ниже гл. V).
Многие теоретики вообще отрицают присутствие каких-либо объективных симптомов вымысла в фикциональном тексте. Для Серля (1975, 327), например, «не существует таких особых текстуальных свойств, которые позволяли бы идентифицировать данный текст как фикциональное произведение». Третья же группа теоретиков, придерживающихся, в принципе, мнения об относительном, прагматическом характере фикциональности, исходит из существования определенных
32
См.: Зейдлер 1952/1953; Коциоль 1956; Штанцель 1959; Раш 1961; Буш 1962; Локкеманн 1965; Хоралек 1970; Бронзвар 1970, 42-46; Циммерманн 1971; Андерегг 1973, 48—52; Веймар 1974; Петерсен 1977. Особого внимания заслуживает Женетт, который уже в работе «Повествовательный дискурс» обнаруживает в «крайней и очень спорной позиции» Хамбургер по отношению к атемпоральности эпического претерита «все же некую гиперболическую правду» (1972, 231). Противопоставляя позиции Серля и Хамбургер, Женетт (1990, 405—406) явно склоняется к позиции последней, которую он позднее (Женетт 1991, 350) называет «самым блестящим представителем современной неоаристотелевской школы». 29
«ориентировочных сигналов» (Вайнрих 1975, 525) или «метакоммуникативных» и «контекстуальных» сигналов вымысла (Мартинес, Шеффель 1999, 15). К первым, т. е. ориентировочным, сигналам Вайнрих причисляет характерное для фикциональных текстов намеренное умалчивание определенных обстоятельств места и времени и отрицательное введение, которое встречается, например, в «разрушающем ориентировку» первом предложении романа М. Фриша «Штиллер»: «Я не Штиллер». Метакоммуникативными сигналами служат так называемые «паратексты» (Женетт 1987; ср. также Меннингхоф 1996), т. е. всякого рода сопровождающие тексты, такие как заглавия и подзаголовки, предисловия, посвящения и т. п. В них, как правило, указывается более или менее прямо на фикциональность произведения. Контекстуальный сигнал представляет собой, например, публикация данного произведения в определенной серии или в определенном издательстве. Далее следует учитывать метафикциональные сигналы, встречающиеся в виде тематизации в тексте его возникновения, своеобразия, желаемого восприятия и т. д. (ср. Мартинес, Шеффель 1999, 16—17).
Вернемся еще раз к К. Хамбургер. Невзирая на то, что ее попытка поставить фикциональность на твердую почву объективных текстуальных признаков в наши дни рассматривается в общем как не удавшаяся , ее «Логика литературы» читается как глубокое введение в проблему фикциональности литературы. Упор в этой книге сделан на то, что фикциональная литература (в которую нужно включить и повествование «от первого лица»), изображая персонажи как субъекты в их субъективности, предоставляет читателю непосредственный доступ к
33
Есть, однако, исключения. Д. Кон (1990; 1995), например, вопреки Серлю и в согласии с Хамбургер утверждает абсолютное различие между «историческим и фикциональным повествованием» и существование объективных критериев, «нарратологических признаков» фикциональности: 1) в вымысле повествуемой истории не предшествует реальное событие; не существует той референциальной основы, на которой строит свою историю историк; 2) всезнающий, т. е. свободно вымышляющий автор может употребить точку зрения персонажа, живущего в повествуемом мире, но со своей стороны не повествующего о нем; 3) в романах чувствуется двойственность автора и нарратора, вызывающая неуверенность по отношению к смыслу повествуемого. Размежевание между фикциональными и фактуальными текстами на основе нарратологических критериев обсуждают: Женетт 1990; Лешнигг 1999. 30
их внутренней жизни. Хотя обнаруживаемые «симптомы» и не могут считаться признаками, в строгом смысле отличающими виды повествования друг от друга, поскольку их можно встретить и в нефикциональных текстах, они все же являются чертами, свойственными фикциональным текстам в значительно большей мере, чем текстам фактуальным. Безоговорочное употребление глаголов внутренних процессов («Наполеон думал, что...»), разумеется, может встретиться и в фактуальных текстах, причем подразумевается чистое предположение со стороны автора или наличие источника его знания. Но в фактуальном контексте оно не так закономерно, не так естественно, не так наивно, как, например, у Л. Толстого в «Войне и мире». В цитируемом ниже фрагменте всеведущий нарратор без всякой оговорки и мотивировки передает самые тайные движения в душе Наполеона во время Бородинского сражения в форме несобственно-прямого монолога:
Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает. <...> В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека (ТолстойЛ. Н. Полн.
собр. соч.: В 90 т. Т. 11. С. 244—246).
В фактуальном, историографическом тексте такая инсценировка внутренней жизни политического
деятеля была бы немыслима и недопустима. Источников, которые позволили бы историку
осмелиться на соответствующие выводы, просто не существует. Всеведение автора является
привилегией и признаком фикциональности. На самом деле оно является не знанием, а свободным
вымыслом (ср. Женетт 1990, 393; Кон 1995, 109). В этом смысле упор Хамбургер на изображение
внутреннего мира героев как на объективный признак фикциональности вполне соответствует
концепции Аристотеля о мимесисе как «деланьи» (noir\aiq) действующих лиц.
Упомянутые дискуссии о фикциональности еще не привели к созданию общепринятой теории, но,
при всей противоречивости теоретиче-
31
ских подходов и моделей, складывается все же некоторое практическое согласие об основных
чертах литературной фикциональности. В дальнейшем я привожу модель, основывающуюся на
общих чертах многочисленных позиций.
Фиктивный мир
Быть фиктивным — значит быть только изображаемым. Литературный вымысел — изображение мира, не претендующее на прямое отношение изображаемого к какому бы то ни было реальному, внелитературному миру. Фикция заключается в «деланьи», в конструкции вымышленного, возможного мира. Для мимесиса создатель изображаемого мира может черпать элементы из разных миров . Тематические единицы, использованные им как элементы фиктивного мира, могут быть знакомы по реальному миру, встречаться в разных дискурсах данной культуры, происходить из чужих или из древних культур или существовать в воображении. Независимо от их происхождения из реального, культурного или воображаемого миров все тематические единицы, входя в фикциональное произведение, непременно превращаются в единицы фиктивные. Референциальные обозначающие в фикциональном тексте не указывают на определенные внетекстовые реальные референты, а относятся только к внутритекстовым референтам изображаемого мира. Другими словами, «вынесение» (Hinausversetzung, по Ингардену 1931) внутритекстовых референтов за границы текста, обычное для фактуальных текстов, в фикциональной литературе не происходит35. Таким образом получается «парадоксальная псевдореферентная функция или денотация без денотата» (Женетт 1991, 364). Однако нарушение
34
О пересечении теории фикциональности и теории возможных миров см.: Павел 1986; Долежел 1998, 1—28. Согласно польскому феноменологу Роману Ингардену (1931), оказавшему большое влияние на современное литературоведение, литература отличается от не-литературы таким типом утверждений, который Ингарден называет «квазисуждениями» (Quasi-Urteile). Видимость таких суждений заключается в том, что их предметы существуют только как «чисто интенциональные», не будучи «вынесены» (hinausversetzt) в сферу реального бытия. Анализ теорий Ингардена и Хамбургер с точки зрения нынешней прагматики см.: Габриель 1975, 52—63. 32
прямой связи текста и внетекстового мира ничуть не значит, что фиктивный мир для читателя лишен значения или является менее релевантным, чем реальный. Наоборот, фиктивный мир может приобрести высшую релевантность. С внутритекстовыми референтами, например, персонажами или действиями, читатель может обращаться как с реальными, индивидуальными, конкретными величинами , даже если он отдает себе отчет в их фиктивности. Какой читатель останется безучастным к гибели Анны Карениной, кто останется равнодушным к борьбе Левина за веру? Что же именно является фиктивным в фикциональном произведении? Ответ гласит: изображаемый мир целиком и все его части — ситуации, персонажи, действия. Вымышленные единицы отличаются от реальных не каким-либо тематическим или формальным признаком, а только тем незаметным, невидимым свойством, что они не существуют или не существовали в реальности . Тезис о не-существовании в реальном мире, пожалуй, не вызывает сомнения в случае явно вымышленных персонажей, таких как, например, Наташа Ростова или Пьер Безухов. А как быть с такими историческими личностями, как Наполеон или Кутузов, если они фигуры романа? Это только квазиисторические фигуры. Наполеон Толстого не является ни отражением, ни отображением реальной исторической личности, а изображением, мимесисом Наполеона, т. е. конструкцией возможного Наполеона. Большая часть того, что повествуется в романе об этом Наполеоне (ср. цитированные выше размышления героя во время Бородинского сражения), не может быть засвидетельствована документами и немыслима в историографическом тексте. В романе «Война и мир» Наполеон и Кутузов не менее фиктивны, чем Наташа Ростова и
Пьер Безухов (для фиктивности, разумеется, градации не существует)38.
Об индивидуальности фиктивных персонажей см.: Мартинес Бонати 1981, 24.
Такое утверждение ничуть не противоречит существованию определенных текстуальных, контекстуальных или метатекстуальных признаков фикциональности.
См.: Долежел 1989, 230—231. Долежел правильно утверждает, что фиктивные миры предполагают онтологическую гомогенность и что концепция смешанной онтологии исторических фигур в фиктивном мире (mixed-bagconception) не приемлема. 33
Фиктивность персонажей не подлежит сомнению, когда они наделены чертами, пусть самыми незначительными, которые явно вымышлены и не могут быть подтверждены каким бы то ни было историческим источником. Но даже если автор исторического романа последовательно придерживался бы засвидетельствованных историками фактов (что исключало бы всякое изображение внутреннего мира), то все его герои, как бы они ни были похожи на исторических личностей, все же неизбежно являлись бы вымышленными фигурами. Уже тот факт, что эти квазиисторические фигуры живут в том же мире, что и явно вымышленные, превращает первых в фиктивные персонажи. Того Наполеона и того Кутузова, которые могли бы встретиться с Наташей Ростовой и Пьером Безуховым, в реальном мире не существовало.
Фиктивность персонажей делает фиктивными и ситуации, в которых они находятся, и действия, в которых они принимают участие. Фиктивным является и пространство романа. Это очевидно в случае Скотопригоневска, места действия «Братьев Карамазовых», не находящегося ни на одной карте России. Но фиктивными являются и те места, которым соответствует конкретный эквивалент в реальности. Ту Москву, например, в которой живут герои романа «Война и мир», то Бородино, под которым погибает Андрей Болконский, нельзя найти ни на какой исторической карте России. Ни Москва, ни Бородино, ни какое-либо другое место действия романа «Война и мир» не обозначает точки на пространственной оси реальной системы временно-пространственных координат. В реальной системе координат мы находим только такие Москву и Бородино, где ни Наташа Ростова, ни Андрей Болконский никогда не бывали. Столь же фиктивно и изображаемое время романа. Это очевидно в произведениях утопического или антиутопического характера. Наглядным примером фиктивного времени долго служил роман Дж. Оруэлла «1984». Но когда наступил этот год, фиктивность времени романа показалась чуть менее очевидной.
Таким образом, в фикциональном произведении фиктивными являются все тематические компоненты повествуемого мира — персонажи, места, времена, действия, речи, мысли, конфликты и т. д. Повествуемый мир — тот мир, который создается повествовательным актом нарратора. Но изображаемый мир, созданный автором, не исчерпывается повествуемым миром. В него входят также нарратор, его адресат и 34
само повествование. Нарратор, им подразумеваемый слушатель или читатель и повествовательный акт являются в фикциональном произведении изображаемыми и, следовательно, фиктивными . Повествовательное произведение — это произведение, в котором не только повествуется (нарратором) история, но также изображается (автором) повествовательный акт. Таким образом, получается характерная для повествовательного искусства двойная структура коммуникативной системы, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций, причем нарраторская коммуникация входит в авторскую как составная часть изображаемого мира .
39
Употребление термина «изображение» по отношению к повествовательному акту, нарратору или наррататору (см. главу II) может вызвать сомнение. Здесь этот термин, являющийся эквивалентом нем. Darstellung, англ. representationи франц. representation, служит выражению отношения как эксплицитного означения (референции), осуществляющегося на основе репрезентативной, или представляющей, функции языка, так и имплицитного означения при помощи экспрессивной и апеллятивной функций языка (Бюлер 1918/1920; 1934). Доработка теории Бюлера: Кайнц 1941. Обзор разных подходов к функциям языка: Шмид 19746, 384—386.
40
Формула «коммуницированная коммуникация» (kommunizierteKommunikation), при помощи которой Дитер Яник (1973, 12) характеризует повествовательное произведение, является несколько упрощенной: коммуницируется не прямо нарраторская коммуникация, а изображаемый мир, в котором она содержится (ср. Шмид 1974а). Во II главе коммуникативные уровни нарративного произведения и соотношение их инстанций будут рассмотрены подробнее. 35
Схема двойной структуры коммуникации в повествовательном произведении Авторская коммуникация

36
3. Эстетичность
Чтобы охарактеризовать художественное повествование, необходимо прибегнуть к признаку фикциональности. Но одного этого признака недостаточно. Фикциональность и художественность — понятия не совпадающие. Есть фикциональные повествовательные тексты, которые не относятся к области художественной литературы. Таковы истории, служащие примерами в научной или дидактической работе, текстовые задачи в учебнике по математике, рекламные ролики и т. п. Художественное повествование обладает еще одним признаком — эстетичностью, вернее, эстетической функцией всего произведения, в котором оно фигурирует как составная часть изображаемого мира. Не намереваясь углубляться в пропасти литературной эстетики, ограничусь некоторыми замечаниями о том, каким образом эстетическая функция произведения влияет на повествование и его восприятие.
Наряду с теоретическими и практическими функциями литературное произведение выполняет также функцию эстетическую. В наборе функций, предопределенных фактурой произведения, эстетическая функция, в принципе, занимает первое место. Этим, однако, не исключается, что в некоторые периоды для некоторых реципиентов действительно преобладают теоретические или практические функции. На практике внеэстетические функции часто вытесняют задуманную автором или предназначенную фактурой эстетическую функцию, как и, наоборот, задуманный автором или предназначенный фактурой для вне-эстетического (теоретического, идеологического или религиозного) действия текст может некоторыми читателями и в некоторые эпохи восприниматься как текст с преобладающей эстетической функцией (ср. Мукаржовский 1932; 1938; 1942)41.
Эстетическое восприятие текста подразумевает напряжение разных воспринимающих сил, как познавательных, так и чувственных, и оно не ограничивается ни тематической информацией текста, ни средствами ее выражения. Это восприятие целостное, восприятие структуры, включающей взаимодействия содержательных и формальных элементов. В эстетической установке на текст действует презумпция семантичности всех его элементов, как тематических, так и формаль-
41 Ср. также Хватик 1981, 133—141. 37
ных (ср. Лотман 1964; 1970; 1972). Таким образом, тематические единицы приобретают вторичный смысл, а элементы формальные, сами по себе не имеющие какого бы то ни было референциального значения, наделяются смысловой функцией. С одной стороны, они способствуют порождению эстетического содержания, подчеркивая соотношения между тематическими единицами, высвобождая в этих единицах семантические потенциалы, надстраивая на них новые сцепления в сложном семантическом рисунке произведения. С другой стороны, формальные элементы, совсем прозрачные, как бы невидимые во внеэстетической установке, становятся объектами восприятия, соединяясь с тематическими структурами и образуя с ними сложные «гештальткачества» (ср. Шмид 1977).
Какую релевантность имеет эстетичность для нарративной структуры и нарратологии? Для того чтобы эстетическая функция действительно преобладала, повествование должно отличаться чертами, вызывающими у читателя эстетическую установку. Это, разумеется, не значит, что нарратор должен повествовать «красиво». Носителем эстетического намерения является не нарратор, а изображающий и его, и повествовательный акт автор или текст. А для того чтобы произведение вызвало у читателя эстетическую установку, автор должен организовать повествование таким образом, чтобы оно не было носителем лишь тематической информации, чтобы содержательной стала сама манера повествования. Преобладание эстетической функции требует, чтобы тематические и формальные элементы друг друга мотивировали и оправдывали, способствуя в познавательном и чувственном взаимодействии образованию сложного эстетического содержания.
Фикциональность и эстетичность — это два самостоятельных, независимых друг от друга отличительных признака художественного повествования. Но они одинаковым образом влияют на восприятие произведения. Как фикциональность, так и эстетичность обусловливают изоляцию произведения, снятие внешней референтности, ослабление непосредственного соотнесения с реальностью. В порядке компенсации оба эти свойства вызывают концентрацию внимания на самом произведении, на его структуре, на внутренней референтности. Под знаком фикциональности и эстетичности отношение вымышленного Наполеона к исторической личности с тем же именем, отношение внутрироманного мира к некоему историческому менталитету (соот-38
ветствующему, впрочем, в романе «Война и мир» скорее 1860-м годам, когда роман писался, чем
реальным наполеоновским временам) становится менее релевантным. Вместо внешних отношений
текста к действительности в центре внимания находятся внутритекстовые отношения: с одной
стороны, отношения между тематическими элементами, такими как персонажи, действия,
ситуации, с другой стороны, между тематическими и формальными элементами.
Под действием фикциональности и эстетичности художественное повествование, однако, связи с
внелитературной действительностью не теряет. Изменение отношения художественного
произведения к действительности под влиянием эстетической функции чешский структуралист Ян
Мукаржовский рассматривает на примере «поэтического обозначения» (poetickepojmenovani):
Ослабление непосредственного отношения поэтического
обозначения к действительности компенсируется тем, что
художественное произведение как обозначение глобальное
[pojmenovaniglobalnf] завязывает отношения со всем жизненным
опытом субъекта, как творящего, так и воспринимающего, в его
совокупности (Мукаржовский 1938а, 60)42.
Как раз в силу того, что фикциональность и эстетичность ослабляют непосредственное отношение произведения к действительности и направляют внимание воспринимателя на внутреннюю референтность и на художественное построение повествования, они способствуют в конечном счете оживлению целостного отношения человека к действительности. 42 Ср. Хватик 1983
Глава II. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТАНЦИИ
1. Модель коммуникативных уровней
Повествовательное произведение отличается, как мы видели, сложной коммуникативной структурой, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций. К этим двум конститутивным в повествовательном произведении уровням добавляется факультативный третий, добавляется в том случае, если повествуемые персонажи, в свою очередь, выступают как повествующие инстанции.
На каждом из описанных трех уровней коммуникации мы различаем две стороны, сторону отправителя и сторону получателя. Употребляя термин «получатель», мы должны учесть немаловажное обстоятельство, в известных коммуникативных моделях нередко упускаемое из виду. Получатель распадается на две инстанции, которые, даже если они материально или экстенсионально совпадают, следует различать с точки зрения функциональной или интенсиональной, — адресата и реципиента. Адресат — это предполагаемый или желаемый отправителем получатель, т. е. тот, кому отправитель направил свое сообщение, кого он имел в виду, а реципиент — фактический получатель, о котором отправитель может не знать. Необходимость такого различения очевидна — если письмо читается не адресатом, а тем, в чьи руки оно попадает случайно, может возникнуть скандал.
С начала 1970-х годов коммуникативные уровни и инстанции повествовательного произведения подвергались анализу в разных моделях. Здесь я возвращаюсь к своей модели (Шмид 1973, 20— 30; 1974а), которая впоследствии применялась в анализах текстов, обсуждалась, модифицировалась и дорабатывалась в теоретических работах . Одновременно с предложенной мною моделью была опубликована модель
1 См.: Линк 1976, 25; Карманн, Рейс, Шлухтер 1977, 40; Хук 1981, 257—258; Линтфельт 1979; 1981; Диас Аренас 1986, 25, 44; Вестстейн 1991; Пашен 1991, 14-22. 40
Яника (1973), которую я тогда не мог учесть2. Не были мне тогда доступны и работы польских ученых (Окопиень-Славиньска 1971, Бартошиньский 1971) .В дальнейшем эти труды я учитываю, так же как и отзывы научной критики на предложенную мною модель . Модель коммуникативных уровней
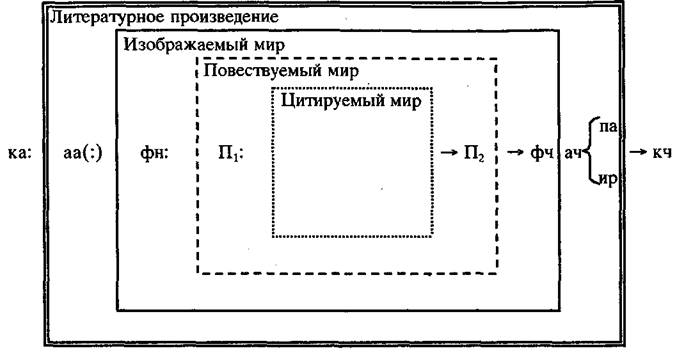
Объяснение сокращений и знаков:
ка = конкретный автор фч = фиктивный читатель
= создает (наррататор)
аа = абстрактный автор ач = абстрактный читатель
Шмид В.=Нарратология. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 312 с. - (Studia philologica). 24
фн = фиктивный нарратор па = предполагаемый адресат
произведения „> = направлено к
ПЬП2, = персонажи ир = идеальный реципиент
кч = конкретный читатель
2
См. рецензию: Шмид 1974а и реплику: Яник 1985, 70—73. з См. систематизацию и развитие польских моделей: Фигут 1973, 186; 1975, 16.
4
См. также «Ответ критикам»: Шмид 1986. 41
2. Абстрактный автор Конкретные и абстрактные инстанции
Начнем с того уровня и с тех инстанций, которые имеются в каждом сообщении и поэтому не являются специфическими для повествовательного произведения. Это авторская коммуникация, к которой принадлежат автор и читатель. Эти инстанции выступают в каждом сообщении в двух разных видах, в конкретном и в абстрактном. Конкретный автор
Конкретный автор — это реальная, историческая личность, создатель произведения. К самому произведению он не принадлежит, а существует независимо от него. Лев Толстой существовал бы, конечно же (хотя, наверное, не в нашем сознании), даже если бы он ни одной строки не написал. Конкретный читатель, реципиент,
Конкретный читатель, реципиент, также существует вне читаемого им произведения и независимо от него. Собственно говоря, имеется в виду не один читатель, а бесконечное множество всех реальных людей, которые в любом месте и в любое время стали или становятся реципиентами данного произведения (модель внешней коммуникации: Шмид 1973,22). Несмотря на то что автор и читатель в их конкретном модусе в состав литературного произведения не входят, они в нем каким-то образом представлены. Любое сообщение содержит имплицитный образ отправителя и адресата. Когда мы слушаем, не видя ни говорящего, ни его собеседника, к кому-то обращенную речь неизвестного нам человека, мы автоматически на основе услышанного создаем для себя представление об отправителе и получателе речи, вернее — не о получателе самом по себе, но о получателе, каким его предполагает отправитель, т. е. о предполагаемом адресате.
Образ отправителя, содержащийся во всяком сообщении, основывается на функции, которую К. Бюлер сначала (1918/1920) называл Kundgabe5, позднее (1934) Ausdruck, т. е. на экспрессивной функции языка. Под этим понятием подразумевается то невольное, ненамеренное самовыражение говорящего, которое имеет место во всяком речевом акте. Слово как знак служит здесь не «символом», опосредующим эксплицитное, референтное означение предметов и положений, а «симптомом, признаком, indicium» (Бюлер 1934, 28). Чтобы обозначить этот
Ср. также понятие Kundgabefunktion: Ингарден 1931, 218. 42
имплицитный вид изображения на основе невольных, ненамеренных, неарбитрарных, естественных симптоматических знаков, мы будем в дальнейшем пользоваться восходящим к основоположнику семиотики Ч. С. Пирсу (1931—1958) понятием «индекс» или производным от него термином «индициальные знаки»6.
Сказанное можно применить и к литературному произведению . В нем также при помощи симптомов, индициальных знаков выражается автор. Результат этого семиотического акта, однако, не сам конкретный автор, а образ создателя произведения, воплощенный в его творческих актах. Этот образ, который имеет две основы — объективную и субъективную, т. е. который содержится в произведении и реконструируется читателем, я называю абстрактным автором.
Предыстория понятия «абстрактный автор»
Прежде чем определить понятие абстрактного автора, рассмотрим вкратце его предысторию. Впервые приступил к разработке соответствующей концепции «образа автора» В. В. Виноградов в книге «О художественной прозе» (1930) . Уже в 1927 г., когда он вырабатывал понятие образа автора — сначала под названием «образ писателя», — Виноградов писал жене:
Я же поглощен мыслями об образе писателя. Он сквозит в художественном произведении всегда. В ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик. Это — не лицо «реального», житейского Толстого, Достоевского, Го-
«Индициальный» — от лат. index(род. п. indicis) и indicium. В русском языке знаки этого типа называются также «индексными» (Якобсон 1970, 322) или «индексальными». О роли индициальных знаков в семантическом построении литературного произведения: Червенка 1992.
О возникновении теории автора на Западе и в России см.: Рымарь, Скобелев 1994,11—59. О формировании понятия образа автора у Виноградова см.: Чудаков 1992, 237—243; о разных гранях осмысления Виноградовым термина «образ автора» см.: Лихачев 1971; Ковтунова 1982; Иванчикова 1985. О схождениях и расхождениях Виноградова и Бахтина по вопросу об «образе автора» см.: Большакова 1998. Эта исследовательница, однако, очевидно, по оплошности, приписывает цитату из Виноградова (1971) Бахтину, таким образом конструируя для последнего удивительно однозначную и положительную позицию по отношению к дискуссионному для него концепту. 43
голя. Это — своеобразный «актерский» лик писателя. В каждой яркой индивидуальности образ писателя принимает индивидуальные очертания, и все же его структура определяется не психологическим укладом данного писателя, а его эстетико-метафизическими воззрениями. Они могут быть не осознаны (при отсутствии у писателя большой интеллектуальной и художественной культуры), но должны непременно быть (т. е. существовать). Весь вопрос о том, как этот образ писателя реконструировать на основании его произведений. Всякие биографические сведения я решительно отметаю (цит. по: Чудаков 1992, 239).
В поздней работе, напечатанной посмертно, Виноградов (1971, 118) определяет образ автора
следующими словами:
Образ автора — это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это — концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого.
Добавляя, что в формах сказа «образ автора обычно не совпадает с рассказчиком», Виноградов, однако, допускает мысль, что «образ автора» в принципе может совпадать с нейтральным повествователем. Такое не совсем последовательное разграничение образа автора и нарратора характерно для всего творчества Виноградова.
8 период возрождения научного литературоведения в России в конце 50-х — начале 60-х годов идея внутритекстового автора была обновлена и развита в работах Бориса Кормана . Исходя из теории «образа автора» Виноградова и опираясь на концепции Бахтина о диалогическом столкновении разных «смысловых позиций» в произведении, Корман создал метод, называемый им «системно-субъектным», центральной частью которого является исследование автора как «сознания произведения». Подход Кормана отличается от теорий его предшественников двумя существенными аспектами. В отличие от Виноградова, в работах которого «образ автора» носит облик стилистический, Корман исследует не соотношение стилистических пластов, которыми автор, применяя разные стили, пользуется как масками, а взаимоотношение разных сознаний. Если Бахтин проблему автора разрабатывал преимущественно в философско-эстетическом плане, то Корман сосредоточи-
9 Ср. Рымарь, Скобелев 1994, 60—102. 44
вается на исследовании поэтики10. Для Кормана автор как «внутритекстовое явление», т. е. «концепированный автор», воплощается при помощи «соотнесенности всех отрывков текста, образующих данное произведение, с субъектами речи — теми, кому приписан текст (формально-субъектная организация), и субъектами сознания — теми, чье сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация)» (Корман 1977, 120). В «Экспериментальном словаре» Кормана мы находим следующее сопоставление биографического и «концепированного» автора: Соотношение автора биографического и автора-субъекта сознания, выражением которого является произведение... в принципе такое же, как соотношение жизненного материала и художественного
произведения вообще: руководствуясь некоей концепцией действительности и исходя из определенных нормативных и познавательных установок, реальный, биографический автор (писатель) создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора художественного (концепированного). Инобытием такого автора, его опосредованием является весь художественный феномен, все литературное произведение (Корман 1981,174).
Существенный вклад в разработку теории внутритекстового автора внес чешский структурализм. Ян Мукаржовский (1937, 314) говорит об «абстрактном, содержащемся в самой структуре произведения субъекте, который является только пунктом, с которого можно обозреть всю эту структуру одним взглядом». В каждом произведении, добавляет Мукаржовский, даже в самом обыкновенном, находятся признаки, указывающие на присутствие этого субъекта, который никогда не сливается ни с какой конкретной личностью, будь то автор или реципиент данного произведения. «В своей абстрактности он предоставляет только возможность проецирования этих личностей во внутреннюю структуру произведения» (Там же).
Инстанция, которую Мукаржовский называл «абстрактный субъект», у Мирослава Червенки (1969, 135—137), чешского структуралиста второго поколения, называется «личностью» (osobnost) или «субъектом произведения» (subjektdila). Эту «личность» он объявляет «обозначаемым», signifie, или «эстетическим объектом», литературного произведения, воспринимаемого как «индекс» в смысле Ч. С. Пирса. «Личность» или «субъект произведения» у Червенки — это единствен-
10 Ср. Рымарь, Скобелев 1994, 62—63, 72—73. 45
ный принцип, воплощающий динамическое соединение всех семантических пластов произведения. При этом «личностью» не подавляется внутреннее богатство произведения и не приглушается указывающая на конкретного автора личностная окраска .
Исследование субъекта произведения в Польше начинается с работ Януша Славиньского (1966; 1967), в которых были развиты концепции как Виноградова, так и Мукаржовского. Сам Славиньский называет виноградовский образ автора «субъектом творческих актов» (podmiotczynnoscitworczych) или «отправителем правил речи» (nadawcaregulmowienia), а Эдвард Бальцежан (1968) употребляет термин «внутренний автор» (autorwewn^trzny). Особое значение имеет работа Александры Окопиень-Славиньской (1971), через посредство Рольфа Фигута (1975) оказавшая немалое влияние на западные модели повествовательной коммуникации. В ее пятиуровневой схеме ролей в литературной коммуникации фигурируют две внетекстовые инстанции отправителя — 1) «автор» (в определении Фигута (1975, 16): «автор во всех его житейских ролях»), 2) «адресант произведения (диспонент правил, субъект творческих актов)» (у Фигута: «диспонент литературных правил, из которых подбираются и комбинируются соответствующие данному произведению правила; автор в роли создателя литературы вообще») . Этим двум внетекстовым ипостасям автора противопоставлена внутритекстовая инстанция, которую Окопиень-Славиньска называет «субъектом произведения» (podmiotutworu) и которую Фигут определяет как «субъект правил речи во всем произведении, субъект использования литературных правил, действительных для данного произведения». Выделение двух внетекстовых уровней коммуникации оказывается, однако, с систематической точки зрения проблематичным, а с прагматической точки зрения — мало плодотворным в анализе текста.
В западноевропейской и американской нарратологии широко распространено понятие «имплицитный автор» (impliedauthor), восходящее к американскому литературоведу так называемой ChicagoschoolУэйну Буту (1961)13. Вопреки популярным со времен Г. Флобера требовани-
11 Ср. Штемпель 1978, XLIX—LIII.
12
В более поздней работе Фигут (1996, 59) различает даже три внетекстовых проявления адресанта: 1) автор как историческое лицо, 2) автор как романист, 3) автор как сочинитель данного романа.
13
О контексте понятия «имплицитный автор» ср. Киндт, Мюллер 1999. 46
ям к автору проявлять объективность, т. е. нейтральность, беспристрастность и impassibilite, Бут подчеркивает неизбежность субъективности автора, необходимость звучания его голоса в произведении:
Когда <реальный автор> пишет, он создает... подразумеваемый
[implied] вариант «самого себя», который отличается от подразумеваемых авторов, которых мы встречаем в произведениях других людей. <...> тот образ, который создается у читателя об этом присутствии, является одним из самых значительных эффектов воздействия автора. Как бы автор ни старался быть безличным, читатель неизбежно создаст образ [автора], пишущего той или другой манерой, и, конечно, этот автор никогда не будет нейтрально относиться к каким бы то ни было ценностям (Бут 1961, 70—71).
Критика категории авторства
Понятие имплицитного, или абстрактного, автора, широко применяемое на практике, наталкивалось в западной теоретической дискуссии как на решительное одобрение, так и на острую критику. Отрицание всех концепций подразумеваемой в произведении авторской инстанции развивалось в русле общего недоверия к автору с 1940-х годов14.
Одним из самых влиятельных факторов этого развития была выдвинутая «новыми критиками» Уильямом К. Уимсатюм и Монро С. Бердсли (1946) критика так называемого «заблуждения в отношении намерения» (intentionalfallacy) . «Заблуждение», по мнению «новых критиков», возникает тогда, когда толкователь пользуется для интерпретации разъяснениями намерений, исходящими от самого поэта, сведениями и информацией относительно истории создания произведения . Предметом интерпретации является, по мнению представителей «новой критики», не авторский замысел, а литературный текст сам по себе (thepoemitself), который, зарождаясь, отделяется от автора и ему уже не принадлежит. Поэтому, по их мнению, для интерпретации важны не внетекстовые, а исключительно внутритекстовые факты (internalevidence). Бут, который в принципе разделял критику «заблуждения в отношении намерения», преодолел при помощи понятия импли-
14
См. обзор «нападений» на автора: Яннидис и др. 1999, 11—15.
Обзор дискуссий о «заблуждении в отношении намерения»: Даннеберг, Мюллер 1983; см. также: Даннеберг1999.
Ср. Палиевская 1996, 48. 47
цитного автора строгий имманентизм и автономистские доктрины «новой критики», исключавшей под знаменем критики всевозможных «заблуждений» и «ересей» не только инстанцию автора, но и «публику», «мир идей и верований», «нарративный интерес» (Бут 1968, 84—85). Опосредующее понятие внутритекстового «имплицитного» авторства, к которому прибегал Бут, таило в себе возможность говорить о смысле и замысле произведения, не впадая в «интенциональное» заблуждение .
Чрезвычайно влиятельная еще и в наши дни критика авторства была произнесена под лозунгом «смерти автора» во французском постструктурализме . Юлия Кристева (1967), исходя из бахтинского понятия «диалогичности», которое она истолковала как «интертекстуальность» (тем самым вводя новый термин в литературоведение), заменила автора как порождающий принцип произведения представлением самодействующего текста, порождающегося в пересечении чужих текстов, которые он поглощает и перерабатывает. Через год после этой декларации Ролан Барт (1968) провозгласил «смерть автора». Если у Кристевой автор предстает только как «сцепление» (enchainement) дискурсов, то Барт ограничивает его функцией «связать стили» (melerlesecritures). Согласно Барту, в художественном произведении говорит не автор, а язык, текст, организованный в соответствии с правилами культурных кодов своего времени. Идея авторства была окончательно дискредитирована Мишелем Фуко (1969), утверждавшим, что эта историческая концепция служила только регулированию и дисциплинированию обращения с литературой. «Антиавторские филиппики» (Ильин 19966) постструктуралистов в России нашли лишь ограниченный отклик. Связано это, может быть, с тем, что в русской классической литературе, все еще определяющей культурный менталитет российского общества, доминировал практический этицизм, который усматривал высочайшую ценность в личности и
17 _ „ - „ „
Этот компромиссный характер понятия «имплицитный автор», примиряющего строгий автономизм «новой критики» с признанием авторского присутствия в произведении, был впоследствии не раз предметом критики; см.: Юль 1980, 203; Лансер 1981, 50; Поллетга 1984, 111; Нюннинг 1993, 16—17; Киндт, Мюллер 1999, 279-280.
О критике изгнания автора см. сборники: «Автор и текст» (Маркович, Шмид [ред.] 1996; см. особенно статьи С. Евдокимовой и М. Фрайзе); «Возвращение автора» (Яннидис и др. [ред.] 1999).
48
авторстве. Эта этическая тенденция сказывается и в эстетическом мышлении Михаила Бахтина. Недаром молодой философ в скрытой полемике с формализмом опоязовскому лозунгу «Искусство как прием» противопоставил свою этическую формулу «Искусство и ответственность» (Бахтин 1919)19.
Абстрактный автор: за и против
Главные возражения против включения в модель коммуникативных уровней имплицитного, или абстрактного, автора такие:
1) В отличие от нарратора абстрактный автор является не «прагматической» инстанцией, а семантической величиной текста (Нюннинг 1989, 33; 1993, 9).
2) Обозначая не структурное, а семантическое явление, понятие абстрактного автора принадлежит не поэтике наррации, а поэтике интерпретации (Динготт 1993, 189).
3) Абстрактный автор не является участником коммуникации (Риммон-Кенан 1983, 88), каким его моделирует, несмотря на все предостережения от слишком антропоморфного понимания, Сеймор Чэтмен (1990, 151) (Нюннинг 1993, 7—8).
4) Абстрактный автор — это только конструкт, создаваемый читателем (Тулан 1988, 78), который не следует персонифицировать (Нюннинг 1989, 31—32).
Все эти аргументы убедительны, но исключения категории абстрактного автора из нарратологии не оправдывают. Не случайно многие из критиков на практике продолжают пользоваться этой отвергаемой категорией. Это происходит, очевидно, по той причине, что нет другого понятия, которое бы лучше моделировало своеобразие воплощения авторского элемента в произведении. «Абстрактный автор» обозначает, с одной стороны, существующий независимо от всех разъяснений автора семантический центр произведения, ту точку, в которой сходятся все творческие линии текста. С другой стороны, это понятие признает за абстрактным принципом семантического соединения
19
Ср. Тодоров 1997. О концепции Бахтина об авторстве и ответственности см.: Фрайзе 1993, 177—220. 49
всех элементов творческую инстанцию, чей замысел — сознательный или бессознательный — осуществляется в произведении.
Показательно и то, что те исследователи, которые требуют полного устранения понятия «абстрактный автор» или impliedauthor, до сих пор смогли предложить взамен только малоудовлетворительные суррогаты. Так, Ансгар Нюннинг (1989, 36) в замену будто бы «терминологически неточного», «теоретически неадекватного» и на практике «непригодного» понятия impliedauthorпредлагает говорить о «совокупности всех формальных и структурных отношений текста». С. Чэтман (1990, 74—89), хотя и критикующий ключевые определения имплицитного автора у Бута с точки зрения антиинтенционализма, сам в основном выступает «в защиту имплицитного автора» и предлагает тем читателям, которые неохотно обращаются к понятию «имплицитный автор», целый ряд суррогатов — «импликация текста» (textimplication), «инстанция текста» (textinstance), «рисунок текста» (textdesign) или просто «замысел текста» (textintent). Том Киндт и Ханс-Харальд Мюллер (1999, 285—286) приходят к заключению, что понятие «имплицитного автора» целесообразно заменить понятием «автора». Желающим не заблуждаться в отношении намерения Киндт и Мюллер предлагают говорить о «замысле текста» (Textintention). Проблема абстрактного автора интересным образом освещается Ж. Женеттом. Теоретик, который в работе «Discours du recit» (1972) сумел вовсе обойтись без абстрактного автора20, в книге «Nouveau discours du recit» посвящает обойденной инстанции целую главу (1983, 93—107). Обстоятельная аргументация против «полной схемы» инстанций приводит его к некоторому компромиссу. Сначала Женетт констатирует, что «подразумеваемый автор» (auteurimplique), который для наррации не специфичен, объекта нарратологии собой не представляет. На вопрос же, «является ли „подразумеваемый автор" необходимой и, следственно, действительной инстанцией между нарратором и
20
Это вызвало обоснованную критику. См., напр.: Риммон (1976, 58): «Без имплицитного автора трудно разбирать „нормы" текста, особенно тогда, когда они отличаются от норм нарратора»; Бронзвар (1978, 3): «Теория наррации исключает писателя, а включает имплицитного автора. <...> Теория наррации может и должна начинаться с имплицитного автора».
21
Женетт ссылается на схемы: Чэтман 1978, 151; Бронзвар 1978, 10; Шмид 1973, 20—30; Хук 1981, 257— 258; Линтфельта 1981, 13—33. 50
реальным автором», Женетт отвечает амбивалентно: в качестве «инстанции фактической» «подразумеваемый автор» такой необходимой третьей инстанцией не является, но как «инстанция идеальная» он вполне мыслим. Женетт принимает «подразумеваемого автора» в качестве «представления об авторе» (ideedeI'auteur), что он считает более пригодным выражением, чем «образ автора»: «Подразумеваемый автор — это все, что сообщает нам текст об авторе» (1983, 102). Но делать «нарративную инстанцию» из «представления об авторе», по мнению Женетта, не следует. Тем самым Женетт уже не так далек от представителей «полной схемы», которые не собирались абстрактного автора превращать в «нарративную инстанцию».
Две попытки расщепления абстрактного автора
Ожесточенным противником как имплицитного автора в модели Бута, так и абстрактного автора в моей модели выступила Мике Бал. Эти лишние понятия, по ее мнению (1981а, 208—209), несут ответственность не только за широко распространенную «неопределенно психологизирующую» трактовку проблемы точки зрения (Бал 1978, 123), но и за неправильное отделение автора от идеологии произведения — обманчивые понятия должны были сделать отвержение текста возможным без осуждения автора, «что представителям автономизма 1960-х годов казалось очень привлекательным» (Бал 19816, 42). На фоне такого резкого отклонения вызывает удивление тот факт, что в нидерландской версии своего введения в нарратологию (1978, 125) Бал предлагает даже расщепление той инстанции, которая находится между конкретным автором и нарратором, на две фигуры — на «имплицитного автора» (impliciteauteur) и «абстрактного автора» (abstracteauteur), отношение которых она демонстрирует в следующей схеме: имплицитный автор => ТЕКСТ => абстрактный автор
Если первую ипостась автора Бал понимает, согласно определению Бронзвара (1978), как «техническую, перекрывающую инстанцию, вызывающую все другие инстанции к существованию и ответственную за построение всего нарративного текста», вторая авторская фигура рассматривается, согласно определениям Бута и Шмида, как олицетворе-51
ние «семантической структуры» текста, как инстанция, являющаяся не «производителем значений», а «результатом семантического анализа текста» (Бал 1978, 124—125). И та и другая инстанция остаются, по Бал, вне рамок нарратологии.
Необходимость расщепления нашей абстрактной инстанции видит также амстердамский славист Биллем Вестстейн (1984). Но он проводит дифференциацию несколько иначе, различая «имплицитного автора» и «автора в тексте». Под первым подразумевается «правящее текстом сознание», «нечто „полное" (набор имплицитных норм, техническая инстанция, ответственная за всю структуру текста)». Второй же является «чем-то фрагментарным», появляющимся только в отдельных лексических признаках или в идеях, высказываемых одним из изображаемых персонажей. Если «имплицитный автор», по мнению исследователя, меняется от текста к тексту, «автор в тексте» остается более или менее неизменным (Вестстейн 1984, 562). На мой взгляд, ни одна из этих моделей раздвоения абстрактной инстанции не является убедительной. Авторские фигуры, различаемые у Бал, оказываются двумя сторонами одной и той же медали. Определения «производитель» и «результат» только характеризуют ее с разных точек зрения. Как «производитель» значений текста — вернее, как внутритекстовой образ «производителя» — автор предстает с точки зрения созидания произведения. «Результатом» тех же значений текста он является в аспекте рецепции. Это значит: абстрактный автор — это образ автора, создаваемый читателем при соединении всех значений текста. Сам образ автора является результатом семантической деятельности читателя, но содержание этого образа, его изображаемое — это «производитель» как в «техническом», так и в «идеологическом» смысле. Следовательно, та схема критика, в которой «имплицитный автор» поставлен перед текстом, а «абстрактный автор» за ним, моделирует не две различные инстанции, а лишь смену точки зрения наблюдателя. Различаемые у Бал инстанции являются только воплощением вышеупомянутых (с. 42) объективной и субъективной основ абстрактного автора.
Дихотомия Вестстейна оказывается также проблематичной, поскольку его «имплицитный автор» является не чем иным, как правильно понимаемым автором в тексте, т. е. автором, содержащимся во всем тексте, а не только в отдельных сентенциях. То явление, однако, кото-52
рое Вестстейн называет «автор в тексте», — не что иное, как конструкт биографических спекуляций. Не подлежит сомнению, что литературные произведения могут содержать
лексические или идеологические «места», где непосредственно звучит голос автора. Но установление таких «мест» находится в зависимости от субъективного прочтения текста и от индивидуальных представлений об авторе. Кроме того, все слова и идеи, представляющие, как кажется, самого автора, в силу их принципиальной фиктивности подвергаются объективизации и релятивизации. Достаточно вспомнить о повествующей инстанции в «Записках из подполья» Ф. Достоевского или о повествующем герое в повести «Крейцерова соната» Л. Толстого, которые своими рассказами компрометируют и самих авторов, и их идеологию. Это, конечно, крайние случаи, но они свидетельствуют о принципе. Фрагментарный «автор в тексте», каким его понимает Вестстейн, это не что иное, как фиктивная фигура, наделенная чертами автора и вступающая в конкуренцию с другими фигурами и их смысловыми позициями . В таких случаях конкретный автор делает себя самого или, вернее, часть своей личности, своего мышления фиктивным персонажем, превращая свои личные идеологические, характерологические и психологические напряжения и конфликты в сюжет. Такое овеществление автора в фиктивных фигурах его произведений встречается довольно часто. Лермонтовский Печорин, автобиографичность которого так очевидна, что нарратор, вернее, фиктивный автор предисловия романа считает нужным от нее иронически дистанцироваться, является ярким случаем такого самоовеществления автора. Другие примеры — поздние рассказы Толстого «Дьявол» и «Крейцерова соната». В них герои воплощают в себе, по всей очевидности, слабости самого автора. Нередко автор ставит эксперимент над самим собой, наделяя фиктивного персонажа отдельными своими чертами.
22
Другое дело, если конкретный автор появляется в повествуемом мире, как это не раз происходит у Набокова. Впервые это имеет место в романе «Король, дама, валет» (в 12 и 13 главах): герой Франц наблюдает иностранную чету, говорящую на неизвестном ему языке, обсуждающую его, даже произносящую его фамилию, как ему кажется, и у него возникает чувство, «что вот этот проклятый иностранец... знает про него решительно все» (НабоковВ. Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 2. СПб., 1999. С. 294). Нарушая границы между фиктивным и реальным миром, автор допускает здесь классический нарративный парадокс, который Ж. Женетт (1972, 244) называет «металепсис». 53
В русской литературе можно найти много персонажей, которые служат автору средством самопознания, мало того — орудием в преодолении самого себя. Все такие размышления остаются, разумеется, в рамках биографических спекуляций. Но борьба автора с самим собой для читателя чрезвычайно интересна, хотя предметом нарратологии она не является.
Набросок систематического определения
Возьмемся за систематическое определение нашего абстрактного автора. Абстрактный автор — это обозначаемое всех индициальных знаков текста, указывающих на отправителя. Термин «абстрактный» не значит «фиктивный». Абстрактный автор не является изображаемой инстанцией, намеренным созданием конкретного автора. Поэтому вопрос, поставленный М. М. Бахтиным (1992, 296) по поводу виноградовского «образа автора» — «когда и в какой мере в замысел автора (его художественную волю) входит создание образа автора?», — является неадекватным. Он, очевидно, был вызван попыткой довести это понятие, к которому Бахтин относился далеко не однозначно , до абсурда.
Поскольку абстрактный автор изображаемой инстанцией не является, нельзя приписывать ему ни одного отдельного слова в повествовательном тексте. Он не идентичен с нарратором, но представляет собой принцип вымышления нарратора (ср. Чэтман 1978, 148) и всего изображаемого мира. У него нет своего голоса, своего текста. Его слово — это весь текст во всех его планах, все произведение в своей сделанности. Абстрактный автор является только антропоморфной ипостасью всех творческих актов, олицетворением интенциональности произведения.
Абстрактный автор реален, но не конкретен. Он существует в произведении не эксплицитно, а только имплицитно, виртуально, на основе творческих следов-симптомов, и нуждается в конкретизации со стороны читателя. Поэтому абстрактный автор имеет двоякое существова-23 О принципиальном принятии Бахтиным (1963, 314) внутритекстовой авторской инстанции свидетельствует следующее определение: «Всякое высказывание... имеет своего автора, которого мы слышим в самом высказывании как творца его. О реальном авторе, как он существует вне высказывания, мы можем ровно ничего не знать». 54
ние: с одной стороны, он задан объективно в тексте как виртуальная схема симптомов, с другой, он зависит от субъективных актов прочтения, понимания и осмысления текста читателем, в
которых он актуализируется. Другими словами, абстрактный автор — конструкт, создаваемый читателем на основе осмысления им произведения. Упор следует делать не только на слове «конструкт», к чему имеется склонность у некоторых представителей рецептивной эстетики. Не стоит упускать из виду, что конструирование основывается на содержащихся в самом тексте симптомах, объективность которых принципиально ограничивает свободу толкователя. Поэтому следует предпочесть термину «конструкт» понятие «реконструкт».
В качестве симптомов выступают все творческие акты, порождающие произведение: вымышление событий с ситуациями, героями и действиями, внесение определенной логики действия с более или менее явной философией, включение нарратора и его повествования.
Абстрактный автор неразрывно связан с произведением, индициальным обозначаемым которого он является. Каждое произведение имеет своего абстрактного автора. Конечно, абстрактные авторы разных произведений одного и того же конкретного автора, например Л. Толстого, в определенных чертах совпадают, образуя что-то вроде общего абстрактного субъекта творчества, некий стереотип, в данном примере — «типичного Толстого», тот конструкт, который Ю. Тынянов (1927, 279) называл «литературной личностью»24, а У. Бут (1979, 270) careerauthor25. Существуют даже более общие стереотипы автора, относящиеся не к творчеству одного конкретного автора, а к литературным школам, стилистическим направлениям, эпохам, жанрам. Но это принципиальной связи абстрактного автора с отдельным произведением не снимает. Поскольку конкретизация произведения бывает у различных читателей разной и может варьироваться даже от одного прочтения к другому у одного и того же читателя, то не только каждому читателю, но даже каждому акту чтения в принципе соответствует свой абстрактный автор.
Абстрактного автора можно определить с двух сторон, в двух аспектах — во-первых, в аспекте произведения, во-вторых, в аспекте
Ср. Рымарь, Скобелев 1994, 39—42. 25 Ср. Чэтман 1990, 87—89. 55
внетекстового, конкретного автора. В первом аспекте абстрактный автор является олицетворением конструктивного принципа произведения. Во втором аспекте он предстает как след конкретного автора в произведении, как его внутритекстовой представитель.
Соотношение между конкретным и абстрактным автором, однако, не следует представлять в категориях отражения или отображения, к чему соблазняет термин «образ автора». Внутритекстового представителя также не следует моделировать как рупор конкретного автора, что подсказывает термин «имплицитный автор».
Как мы видели, нередко писатель производит в вымысле эксперимент, подвергая свои убеждения испытанию. Таким образом, он осуществляет в произведении те возможности, которые в жизни должны остаться нереализованными, проявляя радикальное отношение к определенным явлениям, которое он во внехудожественном контексте по разным причинам никогда не стал бы проявлять. Абстрактный автор может предстать перед читателем в идеологическом аспекте значительно радикальнее и одностороннее, чем конкретный автор был в действительности, или, выражаясь осторожнее, чем мы представляем его себе по историческим свидетельствам или просто по традиции.
Такая радикализация абстрактного автора наблюдается, например, в поздних произведениях Л. Толстого. Как нам известно по биографиям, поздний Толстой сам был в некоторых своих идеях не так глубоко убежден, как его абстрактные авторы, воплощающие в себе только одну струю толстовского мышления и преувеличивающие ее.
Наблюдается и обратный феномен — абстрактный автор по своему духовному горизонту может превысить идеологически более или менее ограниченного конкретного автора. Ф. Достоевский, например, в своих поздних романах проявляет удивительное понимание разных идеологий, которые он как публицист резко оспаривает. Отсюда, наверное, происходит парадоксальный тезис Бахтина о «полифоническом романе», где голос автора якобы звучит на равных правах с голосами героев.
Последний роман Достоевского показывает еще и другое явление — двойственность абстрактного автора. В идеологическом плане абстрактный автор «Братьев Карамазовых» преследует цель теодицеи. В то же время в романе осуществляется противоположная тенденция, которая выявляет в теодицее надрыв автора (ср. Шмид 19966). Таким 56
образом, в романе разыгрывается борьба между двумя идеологическими позициями, колебание между proи contra, проявляются два абстрактных автора — верующий и сомневающийся. Абстрактный автор, конечно, не является инстанцией, отправляющей сообщение. Поэтому в нашей схеме на с. 40 двоеточие, символизирующее акт создания и отправления, появляется в скобках. Тут возникает вопрос: зачем вообще вносить в модель коммуникативных уровней инстанцию, которая не является ни участником коммуникации, ни специфическим моментом повествовательного произведения? Не лучше ли ограничиться автором и нарратором, как считают многие нарратологи?
Существование этой инстанции, принадлежащей не к изображаемому миру, а к произведению, бросает объектную тень на нарратора, часто считаемого хозяином положения, свободно распоряжающимся семантическим потенциалом произведения. Присутствие абстрактного автора в модели повествовательной коммуникации выявляет изображаемостъ нарратора, его текста и выражаемых в нем значений. Эти значения приобретают свою конечную (разумеется, в рамках произведении) смысловую установку только на уровне абстрактного автора.
Процесс семантического построения произведения абстрактным автором соответствует иерархии, обозначенной на схеме коммуникативных уровней. Воспроизводя речи персонажей, нарратор использует персональные знаки и значения как обозначающие, выражающие его нарраториальные значения. Подобное имеет место и в отношении между нарратором и абстрактным автором. Знаки, конституирующиеся в процессе повествования — между прочим, на основе персональных знаков, — используются автором в целях выражения своей смысловой позиции. Высказывания персонажей и нарратора выражают персональное или нарраториальное содержание и тем самым способствуют выражению смыслового замысла абстрактного автора.
Семантическую иерархию в повествовательном произведении можно выразить в следующей схеме:
57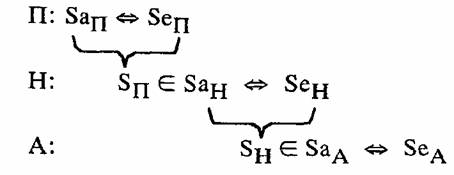
Схему следует читать таким образом: знаки (S, signes), конституируемые взаимоотношением (<==>) обозначающих (Sa, signifiants) и обозначаемых (Se, signifies) на уровне персонажей (П), т. е. Sn, входят (е) в обозначающие на уровне нарратора (SaH), которые, в свою очередь, соотносятся с обозначаемыми на этом уровне (Sen). Аналогичное соотношение существует между уровнями нарратора и абстрактного автора (А). Знаки, конституируемые на уровне нарратора (SH) помимо прочего путем использования знаков на уровне персонажей, используются автором с целью выражения своего замысла. Таким образом, семиотические процессы на одном уровне, охватывающие взаимоотношения между обозначающими и обозначаемыми на данном уровне, употребляются в качестве обозначающих на следующем по иерархии уровне.
3. Абстрактный читатель Абстрактный читатель как атрибут абстрактного автора
С правой стороны нашей схемы эпической коммуникации напротив абстрактного автора внесен абстрактный читатель. Конечно, никакого контакта между этими абстрактными величинами, которые, собственно говоря, не «прагматические» инстанции, а семантические реконструкты, не существует. Абстрактный читатель — это ипостась представления конкретного автора о своем читателе.
Здесь напрашивается обманчивая симметрия — если абстрактный автор является образом конкретного автора, созданным конкретным читателем, то абстрактный читатель может показаться образом конкретного читателя, созданным конкретным автором:
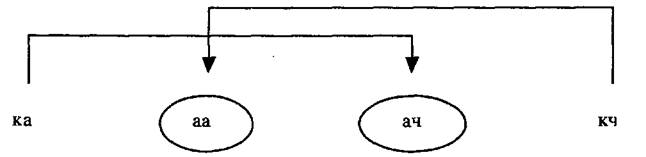
Дело, однако, обстоит чуть сложнее. Не конкретный автор, о намерениях которого мы мало знаем, а созданное им произведение или аб-58
страктный автор — источник проекции абстрактного читателя. Это представление о получателе входит в совокупность свойств реконструируемого конкретным читателем абстрактного автора. Представление о получателе, как и другие свойства абстрактного автора, присутствует в тексте только имплицитно, в его фактуре. Следовательно, абстрактный читатель зависит от индивидуальной экспликации, т. е. от прочтения и понимания текста конкретным читателем, не в меньшей мере, чем сам абстрактный автор. Поэтому мы должны исправить данную схему следующим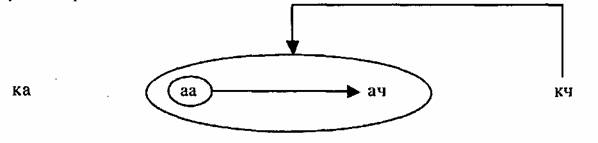 образом: образом:
Предыстория понятия «абстрактный читатель»
Об абстрактном читателе бытует ряд разных понятий. Уже в книге Бута (1961) фигурирует «имплицитный читатель» (impliedreader) как эквивалент абстрактного автора на стороне получателя. Вольфганг Изер (1972; 1976) определяет «имплицитного читателя» (impliziterLeser) как «вписанную в тексты структуру»:
Имплицитный читатель реальным существованием не обладает, потому что он воплощает целостность предварительных ориентировок, которые фикциональный текст предоставляет своим возможным читателям как условие рецепции. Следственно, имплицитный читатель основывается не на некоем эмпирическом субстрате, а только на самой структуре текстов (Изер 1976, 60).
Польский ученый Михал Гловиньский (1967) предлагал понятие «виртуальный реципиент» (wirtualnyodbiorca), выделяя две его разновидности, различение которых обосновывается разными способами презентации смысла: «пассивного читателя» (czytelnikbierny), довольствующегося принятием более или менее явно выражаемого в произведении смысла, и «активного читателя» (czytelnikczynny), активно реконструирующего завуалированный разными приемами смысл. 59
Мирослав Червенка (1969, 138—139) характеризует «личность адресата» (osobnostadresata) следующим образом:
Если субъект произведения является коррелятом актов творческого выбора, то семантическая целостность того, к которому обращено произведение, предстает как набор необходимых способностей понимания, способностей употреблять те же коды и развивать их аналогично созданию говорящего, способностей превращать потенциальность произведения в эстетический объект. <...> И адресат произведения конкретным лицом не является. Он постулируется самим произведением, он является свойственными произведению нормой и идеалом.
После того как Эрвин Вольф (1971) ввел в дискуссию термин «задуманный читатель» (intendierter
Leser), Гунтер Гримм (1977, 38—39) разделил эту инстанцию на «воображаемого читателя» (imaginierterLeser) и «концепционального читателя» (konzeptionellerLeser). Умберто Эко пишет в своей книге «Lector in fabula» (1979) о «читателе-модели» (lettoremodello). В России Рымарь и Скобелев (1994, 119—121) вслед за Б. О. Корманом употребляют понятие «концепированный» читатель. Сам Корман противопоставляет «автору как носителю концепции произведения» соответствующую инстанцию «читателя как постулируемого адресата, идеальное воспринимающее начало»:
Инобытием... автора является весь художественный феномен, который предполагает идеального, заданного, концепированного читателя. Процесс восприятия есть процесс превращения реального читателя в читателя концепированного (Корман 1977,127).
Определение абстрактного читателя
Несмотря на то что все эти термины относятся к содержащемуся в тексте образу читателя, их применение выдвигает различные черты и функции абстрактного читателя. В большинстве случаев онтологический и структурный статус обозначаемой абстрактной инстанции недостаточно ясен, и ее определяют то как адресата автора, то как адресата нарратора. Поэтому целесообразно уточнить содержание понятия и сферу его употребления.
Начнем с того, что абстрактный читатель принципиально никогда не совпадает с фиктивным читателем, т. е. с адресатом нарратора. Такое совпадение допускается Ж. Женеттом (1972, 267) и Ш. Риммон (1976, 55, 58), которые отождествляют «экстрадиегетического нарра-60
татора» (т. е. адресата, к которому обращается безличный всеведущий и вездесущий нарратор, не принадлежащий — по Женетту — к фиктивному миру) с «виртуальным» или «имплицитным» читателем. Женетт, подтверждающий в «Новом дискурсе» (1983, 95) это совпадение, приветствует его как «экономию», которой «очень обрадовался бы Оккам». Но эта экономия понятий возможна только на основе женеттовской системы, в которой «экстрадиегетический» нарратор рассматривается не как фиктивная инстанция, а занимает место отсутствующего абстрактного автора. По Женетту (1983, 92), «экстрадиегетический» нарратор даже совпадает «целиком» с автором, причем с автором не «имплицитным», а «эксплицитным». Конечно, чем ближе фиктивный нарратор к абстрактному автору в отношении идеологии и оценки, тем сложнее на практике провести четкое различение между смысловыми позициями фиктивного и абстрактного читателей. Тем не менее разница между ними остается в силе. Границу между фиктивным миром, к которому принадлежит всякий нарратор, как бы нейтрален или объективен он ни был, и реальностью, к которой принадлежит при всей его виртуальности абстрактный читатель, перешагнуть нельзя — или же можно только в случае нарративного парадокса.
Под абстрактным читателем подразумевается здесь содержание того образа получателя, которого (конкретный) автор имел в виду, вернее, содержание того авторского представления о получателе, которое теми или иными индициальными знаками зафиксировано в тексте.
Незафиксированный в тексте «задуманный» читатель (intendierterLeserв терминологии Ханнелоре Линк (1976, 28) и Гунтера Гримма (1977, 38—39)), который существует только в представлении конкретного автора и которого можно реконструировать исключительно по высказываниям последнего и внетекстовой информации, элементом произведения не является. Такой читатель принадлежит только к сфере конкретного автора, в замысле которого он и фигурирует. Прекрасный пример неосуществленного авторского замысла, т. е. несовпадения задуманного автором читателя и действительно содержащегося в произведении читателя, приводит X. Линк (1976, 28): многие листовки, сочиненные в 60-е годы в Германии студентами-марксистами, были обращены к немецким рабочим с целью довести настоящие их интересы до их же сознания. Кодировка таких посланий соответствовала, однако, не сознанию рабочих, а сознанию адресантов, т. е. студентов-марксистов. 61
Предполагаемый адресат и идеальный реципиент
В зависимости от функций, которые автор придает читателю, следует провести различение между
двумя разновидностями этой подразумеваемой инстанции .
Во-первых, абстрактный читатель — это предполагаемый, постулируемый адресат, к которому
обращено произведение, языковые коды, идеологические нормы и эстетические представления которого учитываются для того, чтобы произведение было понято читателем. В этой функции абстрактный читатель является носителем предполагаемых у публики фактических кодов и норм. Во-вторых, абстрактный читатель — это образ идеального реципиента, осмысляющего произведение идеальным образом с точки зрения его фактуры и принимающего ту смысловую позицию, которую произведение ему подсказывает. Таким образом, поведение идеального читателя, его отношение к нормам и ценностям фиктивных инстанций целиком предопределены произведением. Подчеркнем — не волей конкретного автора, а зафиксированными в произведении и гипостазируемыми в абстрактном авторе творческими актами. Если в данном произведении противоречащие друг другу смысловые позиции находятся в иерархическом напряжении, то идеальный реципиент отождествляется с той инстанцией, которая в этой иерархии занимает самое высокое место. Если же позиция ведущей инстанции релятивируется в аспекте абстрактного автора, идеальный реципиент солидаризируется с ней только по мере того, как это допускается целостным смыслом произведения. Хотя позиция идеального реципиента, как мы установили, и предопределена произведением целиком, степень идеологической конкретности такого предопределения варьируется от автора к автору. Если произведения авторов-проповедников могут требовать определенного осмысления, то для авторов-экспериментаторов, как правило, допустимы разные толкования. У Л. Толстого диапазон допускаемых произведением позиций, несомненно, уже, чем, например, у Чехова.
Разница между указанными двумя ипостасями абстрактного читателя — предполагаемым адресатом и идеальным реципиентом — тем важнее, чем своеобразнее идеология произведения, чем больше оно апел-
См. уже: Шмид 1974а, 407 и вслед за ним: Линтфельт 1981, 18; Ильин 1996в. 62
лирует к принятию не общепризнанного мышления. В позднем творчестве Л. Толстого идеальный реципиент явно не совпадает с предполагаемым адресатом. Если последний характеризуется только такими общими чертами, как владение русским языком, как знание общественных норм конца XIX века и умение читать литературное произведение, то первый отличается рядом специфических идиосинкразии и смысловой позицией толстовства.
Отличие абстрактного читателя от фиктивного категориально, даже в том случае, если абстрактный читатель в отношении мировоззренческих вопросов не так уж далек от фиктивного. Фиктивный читатель, как правило, фигурирует только как личность, реагирующая непосредственно на явления жизненного и этического характера. Абстрактный же читатель этическими реакциями не ограничивается, хотя и они вполне могут быть допустимы или даже предусматриваемы. Как идеальный реципиент он призван в первую очередь занимать эстетическую позицию, а не чью-либо позицию по жизненным, этическим, философским вопросам. По поводу этой концепции абстрактного читателя (Шмид 1973, 1974) в научной критике выдвигались возражения, касающиеся не столько разделения этой инстанции на предполагаемого адресата и идеального реципиента, сколько мнимого принуждения, которому подвергает конкретного читателя концепция идеального реципиента. По мнению Япа Линтфельта (1981, 18), мои определения лишают конкретного читателя свободы:
Эти определения Шмида подразумевают, что «текст программирует свое прочтение». Согласно такой концепции чтение ограничивается «субъективным регистрированием организации смысла, существующей уже до чтения». Итак, Шмид забывает указывать на то, что конкретный читатель может осуществлять также другое чтение, не соответствующее чтению идеальному, заданному абстрактным читателем.
Ян ван дер Энг (1984, 126—127) также требует для конкретного читателя больше свободы и
участия в процессе осмысления произведения, чем, на его взгляд, предусматривает моя концепция
абстрактного читателя. Реципиент, пишет ван дер Энг, не только свободен конкретизировать и
углублять чувственные, эмоциональные и когнитивные содержания произведения по-своему, он
также обнаруживает проецированием этих содержаний на действительность, на философские, ре-
63
лигиозные, психологические взгляды такие смысловые аспекты, которые в произведении не были
явными или даже задуманными.
Концепция абстрактного читателя как идеального реципиента не постулирует, разумеется,
обязательности заданного идеального смысла, который читатель может и должен осуществлять. Нет сомнения, что прочтение, противоречащее подразумеваемой в произведении рецепции, может увеличить содержательность произведения. Но дело в том, что в каждом произведении в более или менее явном виде содержатся указания на его идеальное чтение. Такое идеальное чтение только в редких случаях состоит в конкретном однозначном осмыслении. Как правило, оно предстает как широкий диапазон допускаемых функциональных установок, индивидуальных конкретизации и субъективных пониманий. Внутритекстовым носителем идеального чтения и является абстрактный читатель как идеальный реципиент. Предусматривать его как содержащийся в тексте абстрактный образ еще не значит ограничивать свободу конкретного читателя или принимать какое-нибудь решение о допустимости его фактического осмысления.
4. Фиктивный нарратор
Повествовательный жанр, как мы уже отмечали, отличается от других жанров тем, что внешняя коммуникативная структура «автор — изображаемое — читатель» как бы повторяется внутри изображаемого мира в структуре «фиктивный нарратор — повествуемое — фиктивный читатель». Рассмотрим сначала инстанцию адресанта изображаемой нарраторской коммуникации — фиктивного нарратора.
Повествователь — рассказчик — нарратор
В западном литературоведении принято называть адресанта фиктивной нарраторской коммуникации нарратором (лат., англ., польск. narrator, фр. narrateur; исп., порт, narrador; ит. narratore). В русском литературоведении употребляются два различных термина — «повествователь» и «рассказчик». Их различие определяется по-разному , то по грамматической форме или, вернее, по критерию идентичности или неиден-27 См. обзор: Тамарченко 1999а, 282—287. 64
точности повествующей и повествуемой инстанции: «повествователь» излагает события «от третьего лица», «рассказчик» — «от первого» (Хализев 1988, 236), то по мере выявленности: «повествователь» — «носитель речи, не выявленный, не названный, растворенный в тексте», «рассказчик» — «носитель речи, открыто организующий своей личностью весь текст» (Корман 1972, 33—34).
В общем научном словоупотреблении термин «повествователь» служит обозначению инстанции более или менее «объективной» с идеологической точки зрения, безличной, стоящей близко к автору. Для того чтобы подчеркнуть эту близость, нередко используется составное понятие «автор-повествователь». В широком обиходе термин «повествователь» нередко смешивается с понятиями «автор» и «образ автора». Так, в самом распространенном в советскую эпоху справочнике по литературоведению «Словарь литературоведческих терминов» термины «образ повествователя» и «образ автора» даны как синонимы. Их общее значение определяется как «носитель авторской (т. е. не связанной с речью к.-л. персонажа) речи в прозаическом произведении» (Тимофеев 1974, 248). Такое неразличение изображающего автора и изображаемого повествователя наблюдается в русском литературоведении и по сей день. По замечанию Е. В. Падучевой (1996, 202), «термины повествователь и образ автора (а иногда и просто автор) используются в научной литературе как синонимы».
Термин «повествователь» используется иногда как понятие функциональное, т. е. как обозначение носителя повествовательной функции. Это имеет место, например, в обобщающем труде Н. А. Кожевниковой «Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв.» (1994,3), где констатируется, что повествователем может быть автор или рассказчик. Это значит, что, по мнению исследовательницы, как повествующая инстанция может выступать и сам автор (что в корне расходится с нашей концепцией изображаемости повествования).
Термин «рассказчик» чаще всего обозначает инстанцию более или менее «субъективную», личную, совпадающую с одним из персонажей или принадлежащую миру повествуемых событий. В отличие от стилистически нейтрального «повествователя» «рассказчик» характеризуется некоторым специфическим, маркированным языковым обликом.
Однако между полярными типами «объективного», безличного, стилистически нейтрального, близкого к авторской смысловой позиции 65
«повествователя» и «субъективного», личного, стилистически маркированного, занимающего специфическую оценочную позицию «рассказчика» простирается широкий диапазон переходных типов, четкое разграничение которых невозможно и вряд ли целесообразно. Ввиду неоднозначного употребления понятий «повествователь» и «рассказчик» и нацеленности их разными признаками я предпочитаю пользоваться чисто техническим термином «нарратор», индифферентным по отношению к оппозициям «объективность» — «субъективность», «нейтральность» — «маркированность» и т. д. Понятие «нарратор», подобно другим латинским названиям деятелей, таким как «ауктор», «актор» и т. д., является сугубо функциональным, т. е. оно обозначает носителя функции повествования безотносительно к каким бы то ни было типологическим признакам.
Чтобы избежать антропоморфизма и психологизма, Р. Барт (1966, 19) именует нарратора «бумажным существом». А К. Хамбургер (1968, 111—154) заменяет понятие «нарратор» (отвергаемое ею как «метафорическое лжеописание») понятием «флуктуирующей повествовательной функции» (fluktuierendeErzahlfunktion), которая проявляется то как речь нарратора, то как монолог или диалог персонажей, то как несобственно-прямая речь. Но эта полная деперсонализация понятия «нарратор» не соответствует нашему восприятию повествовательной инстанции. Нарратор конституируется в тексте и воспринимается читателем не как абстрактная функция, а как субъект, неизбежно наделенный определенными антропоморфными чертами мышления и языка. Как раз субъектность нарратора и обуславливает его притягательность в литературе. В истории изучения нарратора с самого начала упор был сделан на его призматической функции, которая дает нам мир — по приведенным выше словам К. Фридеманн (1910, 26) — «не таким, каким он существует сам по себе, а таким, каким он прошел через посредство некоего созерцающего ума».
Этот «созерцающий ум» не следует, разумеется, идентифицировать с живой человеческой фигурой, наделенной обычной для человека компетентностью. Нарратор может быть сконституирован как сверхчеловеческая всеведущая и вездесущая инстанция, живущая в разные эпохи, проникающая в самые утаенные, уголки сознания персонажей. Он может предстать и с подчеркнуто сниженной, по сравнению с абстрактным автором, компетентностью, как это имеет место в случае сказа. 66
Нарратор может быть едва уловимым, сливаясь с абстрактным автором. Но как бы объективен, безличен он ни был, нарратор всегда предстает как субъект, наделенный более или менее определенной точкой зрения, которая сказывается, по меньшей мере, в отборе тех или иных элементов из «событий» для повествуемой «истории»28.
Нарратор может быть также сконституирован непоследовательно, его образ может колебаться. Наглядный пример колеблющегося образа нарратора мы находим в «Братьях Карамазовых». Чаще всего нарратор в этом романе выступает как вездесущая, всеведущая, заглядывающая в самую подноготную души персонажей безличная инстанция. Однако местами, зачастую в очень важных отрывках (например, в прологе «От автора»), он превращается в ограниченного в своем знании хроникера, сообщающего, как на первый взгляд может показаться, много лишнего. В связи с таким колебанием различна и степень выявленное™ нарратора, присутствие которого то сильно чувствуется, то полностью забывается .
Эксплицитное и имплицитное изображение нарратора
Какими средствами автор создает ощущение присутствия нарратора? Иначе говоря — как может
нарратор изображаться? Мы различаем два основных способа его изображения — эксплицитное и
имплицитное.
Эксплицитное изображение основывается на самопрезентации нарратора. Нарратор может
называть свое имя, описывать себя как повествующее «я», рассказывать историю своей жизни,
излагать образ своего мышления, как это делает, например, Аркадий Долгорукий в романе
Достоевского «Подросток». Эксплицитное изображение, однако, не обязательно выражается в
подробном самоописании. Уже само употребление местоимений и форм глагола первого лица
представляет собой самоизображение, хотя и редуцированное.
Если эксплицитное изображение является факультативным приемом, то имплицитное имеет
фундаментальный, обязательный характер.
Под «событиями» подразумевается исходный нарративный материал, под «историей» — результат отбора отдельных элементов (подробнее см. гл. III).
29
О колеблющемся образе нарратора в «Братьях Карамазовых» см.: Мэтло 1957; Буш 1960; Мейер 1971; Шмид 1981. 67
Эксплицитное изображение, там где оно имеется, надстраивается над имплицитным и не может существовать без него.
Имплицитное изображение осуществляется с помощью симптомов, или индициальных знаков, повествовательного текста. Эти знаки основываются, как мы уже видели, на экспрессивной функции языка, т. е. на функции Kundgabeили Ausdruck(Бюлер 1918/1920; 1934). В индициальном изображении нарратора участвуют все приемы построения повествования:
1. Подбор элементов (персонажей, ситуаций, действий, в их числе речей, мыслей и восприятий персонажей) из «событий» как нарративного материала для создания повествуемой истории.
2. Конкретизация, детализация подбираемых элементов.
3. Композиция повествовательного текста, т. е. составление и расположение подбираемых элементов в определенном порядке.
4. Языковая (лексическая и синтаксическая) презентация подбираемых элементов.
5. Оценка подбираемых элементов (она может содержаться имплицитно в указанных выше четырех приемах либо может быть дана эксплицитно).
6. Размышления, комментарии и обобщения нарратора.
Имплицитный образ нарратора — это результат взаимодействия указанных шести приемов. Нарратор, таким образом, является конструктом, составленным из симптомов повествовательного текста. Собственно говоря, он является не кем иным, как носителем указываемых свойств. Релевантность этих приемов для изображения нарратора не одинакова в каждом произведении. В одних произведениях нарратор может изображаться преимущественно индексами в планах подбора, конкретизации и композиции элементов, в других он может быть представлен прежде всего стилистическими средствами, а в третьих его образ может основываться на его (эксплицитных или имплицитных) оценках, на его комментариях, размышлениях и т. п. Черты нарратора, указываемые индексами, также могут быть разными. Он может характеризоваться, например, в следующих отношениях: 68
1. Модус и характер повествования (устность или письменность, спонтанность или неспонтанность, разговорность или риторичность).
2. Нарративная компетентность (всеведение, способность к интроспекции в сознание героев, вездесущность или отсутствие таких способностей).
3. Социально-бытовой статус.
4. Географическое происхождение (присутствие региональных и диалектных признаков речи).
5. Образованность и умственный кругозор.
6. Мировоззрение.
Личностность нарратора
Нарратор может обладать ярко выраженными чертами индивидуальной личности. Но он может быть также безличным носителем какой-либо оценки, например иронии по отношению к герою, и не быть наделенным какими-нибудь индивидуальными чертами .
Систематическое осложнение образа нарратора имеет место в русской прозе 1920-х годов, отличающейся, как показывает Н. А. Кожевникова (1971, 1994), «гипертрофией» двух противоположных стилевых тенденций — «литературности», проявляющейся больше всего в «орнаментальной» прозе, и «характерности», воплощающейся с наибольшей полнотой в сказе. Поэтическая, «орнаментальная» стилизация дискурса, характерная для нее игра со всякого рода эквивалентностями, тенденция к ритмизации, метафоризации и т. п. затрудняет создание представления о едином, личностном нарраторе. В результате установки на орнаментальность происходит ослабление характерности и тем самым понижается естественная мотивированность повествовательного текста, т. е. обусловленность его чертами личного нарратора. В качестве примера можно привести начало рассказа Е. И. Замятина «Ловец человеков»:
Редукция нарратора, сводящая его к ироническому голосу, чаще всего наблюдается в «персональном» повествовании, т. е. там, где наррация ориентирована на точку зрения персонажа. Примером может служить повесть Ф. М. Достоевского «Вечный муж» (см. ниже, с. 74).
69
Самое прекрасное в жизни — бред, и самый прекрасный бред — влюбленность. В утреннем, смутном, как влюбленность, тумане — Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл — все равно куда.
Легкие колонны друидских храмов — вчера еще заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно-огромных черных лебедей-кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугнутые, выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-Ройс, авто» — и потухли. Опять — тихим, смутным кругом: кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу дремлющих черепах-домов. И неподвижной осью: гигантский каменный фаллос Трафальгарской колонны (ЗамятинЕ И. Избр. произв. М., 1989. С. 304).
Текст этот лишен каких бы то ни было стилистических признаков, указывающих на стоящего за ним человека с социально-бытовой, психологической и языковой характеристикой. Экспрессивность дискурса становится еще сложнее, когда орнаментально-поэтические структуры сочетаются со средствами сказа, который нацелен на создание индивидуального образа нарратора. Подобное сочетание литературного синтаксиса, поэтической ритмизации и звуковой фактуры со средствами фольклорной сказовой стилизации создается в «Гибели Егорушки» раннего Л. Леонова:
Каб и впрямь был остров такой в дальнем море ледяном, за полуночной чертой, Нюньюг остров, и каб был он в широту поболе семи четвертей, — быть бы уж беспременно поселку на острове, поселку Нель, верному кораблиному пристанищу под угревой случайной скалой. Место голо и унынно, отдано ветру в милость, суждено ему стать местом широкого земного отчаянья. Со скалы лишь сползают робкие к морю три ползучие, крадучись, березки, три беленькие. Приползли морю жаловаться, что-де ночи коротки, а ветры жгучи... Море не слушает, взвод нем играет, вспять бежит (ЛеоновЛ. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1969. С. 116).
Впрочем, и сам сказ может иметь тенденцию к рассеянности образа нарратора. У Гоголя, например, сказ далеко не всегда мотивируется психологией и стилем личной инстанции и часто выходит за границы характерности, превращаясь в мозаику или монтаж стилистических жестов, гетерогенность которых исключает психологическое единство личностного нарратора .
31
См. Виноградов 1926а; Ханзен-Лёве 1978, 274—278. О сказе и его типах см. ниже, главу V. 70
Антропоморфность нарратора
Проблематику личностности нарратора нужно отличать от проблематики его антропоморфности. Повествующая инстанция может быть личностной, но в то же время не быть человеком. Этот случай имеется, когда повествование ведется всеведущим и вездесущим нарратором, когда оно выходит за рамки определенной пространственной и временной точки зрения, ограниченной возможностями единичного человека. Всеведущий и вездесущий нарратор — богоподобная инстанция, которая в нарратологической традиции не раз обозначалась как «олимпийская» (Шипли [ред.] 1943, 439—440).
С другой стороны, нарратор может стоять «ниже» человека, быть животным. Классический пример повествующего животного — это «Золотой Осел» Апулея, роман, восходящий, как и греческий параллельный текст Лукиана («Лукий, или Осел»), к греческим «Метаморфозам» Лукия из Патр. Во всех этих текстах нарратор повествует в образе осла, в которого он был превращен в наказание за излишнее любопытство. В европейской литературе имеется множество других примеров повествующих животных. Такая традиция развивается под влиянием жанровых особенностей басни и сказки. Один из образцов из художественной литературы — это «Разговор двух собак» (из цикла «Назидательные новеллы» Сервантеса), где собака Берганса рассказывает историю своей жизни своему другу, псу Сипиону. Этот разговор был как бы продолжен в повести-диалоге «Известие о новейшей судьбе собаки Берганса» Э. Т. А. Гофмана, создавшего в
«Житейских воззрениях кота Мурра» другой классический образец повествующего животного.
Линию эту можно продолжить вплоть до «Исследований собаки» и «Доклада перед академией» Ф.
Кафки. В последнем произведении очеловеченная обезьяна докладывает о своем «обезьяньем
прошлом».
Все эти «звериные» нарраторы являются «ненадежными» (unreliable), неадекватно
воспринимающими человеческую действительность только на первый взгляд . На самом деле
повествующие живот-
Не совсем ясное понятие «ненадежного» нарратора было создано У. Бутом (1961). Согласно его определению, следует говорить о «ненадежном» нарраторе в том случае, когда нормы нарратора и «имплицитного» автора не совпадают. По новейшим определениям, в свете «когнитивной» теории, мерилом ненадежности должен служить не «имплицитный» автор, а конкретный читатель (ср. Нюннинг 1998; 1998 [ред.]; 1999).
71
ные — зоркие наблюдатели человеческих нравов, служащие авторам орудием остранения.
Очевидно это становится в «Холстомере» Л. Толстого, где старый мерин, делящийся своим
опытом в мире людей с более молодыми лошадьми, является рупором философии автора: Слова «моя лошадь» относились ко мне, живой лошади, и казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода». Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я, не переставая, думал об этом, и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковы слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы; даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил: мое. И тот, кто про наибольшее число вещей, по этой условленной между ними игре, говорит: мое, тот считается у них счастливейшим (ТолстойЛ. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 26. С. 19-20).
В качестве нарратора фигурируют иногда даже вещи. Примером может служить роман американского писателя Томаса Пинчена (Th. Pynchon) «Радуга гравитации» («Gravity's Rainbow», 1973), где имеется длинный отрывок, рассказываемый электрической лампочкой по имени «Лампочка Билли» («Billy the Bulb»).
Любопытный случай повествующего не-человека — это «Плоская страна. Роман многих измерений» («Flatland. A Romance of Many Dimensions», 1884) английского автора викторианских времен Эдвина А. Абботта (Abbott) . В роли нарратора выступает здесь геометрическая фигура — квадрат: господин Квадрат, житель Плоской страны, повествует не только о нормальной жизни в условиях двухмерного мира, но и о трех его экскурсиях в чужие миры. В своего рода видении он посетил сначала «Линейную страну» («Lineland»), где король — самая длинная линия и где каждая линия обречена вечно смотреть на соседнюю линию, а потом он путешествовал даже в «Точечную страну» («Pointland»), мир без измерений, житель которого мнит себя единственным существующим, всемогущим — богом. Еще интереснее поездка в мир трех измерений, куда господина Квадрата увозит нездешнее существо.
33
За указание на произведения Пинчена и Абботта благодарю членов гамбургской исследовательской группы по нарратологии М. Клеппера и В. Шернуса. 72
Вернувшись в «Плоскую страну», Квадрат старается убедить соотечественников о существовании пространственного мира. Но напрасно — круги, хозяева в Плоской стране, объявляют его сумасшедшим и сажают в тюрьму.
Выявленность нарратора
В каждом ли повествовательном произведении присутствует нарратор? Целесообразно ли
говорить о нарраторе даже тогда, когда повествовательный текст не обнаруживает никаких индивидуальных черт фиктивного адресанта, кроме разве что способности рассказывать ту или иную историю? На эти вопросы даются разные ответы, которые, согласно Мари Лор Рьян (1981), можно свести к трем основным подходам.
Сторонники первого из них не признают никакой принципиальной разницы между сильно выявленным нарратором и нарратором с нулевой степенью индивидуальности. Такая позиция характерна для франкоязычных нарратологов, исходящих из того, что абсолютно безличного повествования, т. е. безнарраторской наррации, вообще не существует (ср. Ильин 1996а). Второй подход, который широко распространен в англоязычной нарратологии (вслед за Лаббоком 1921 и Фридманом 1955), напротив, акцентирует различие между «личным» и «безличным» повествованием. Последнее представлено «всеведущим повествованием» классического романа XIX в. и «анонимным повествовательным голосом» некоторых романов XX в., например у Г. Джеймса и Э. Хемингуэя. Один из представителей этого подхода, Сеймор Чэтман (1978, 34, 254), рассматривает безличное повествование в рассказах Хемингуэя, где повествовательный текст сведен к некомментирующему изложению фактов, как «не-наррацию» (nonnarration), в которой фигурирует, как это ни парадоксально, «не-нарратор» (nonnarrator). Промежуточную позицию между «не-нарратором» и «явным нарратором» (overtnarrator) занимает, по Чэтману, «скрытый нарратор» (covertnarrator). Сторонники тезиса о возможности неприсутствия нарратора ориентируются, как правило, на тексты с последовательной перспективизацией с точки зрения персонажа. По их мнению, в формах несобственно-прямой речи отсутствует нарраторская стихия и задача повествования в таких «наррати-73
вах без нарратора» выполняется персонажами или некоей «повествовательной функцией» (Хамбургер 1957, 1968; Банфильд 1973; 1978а; 19786; 1983).
Третий подход, выдвинутый самой Рьян в духе теории «речевых актов», заключается в компромиссе между первым и вторым подходами: «понятие нарратора является логической необходимостью всех фикциональных текстов, но в случае безличного повествования оно не имеет психологической основы». Если сторонники первого подхода рассматривают безличного нарратора как «индивидуальное, хотя бы и неизвестное человеческое существо», а сторонники второго отрицают логическую необходимость его, то, с точки зрения Рьян (1981, 519), безличный нарратор предстает как «абстрактный конструкт, лишенный человеческого измерения». Мне ближе всего первый подход. Компромисс, предложенный Рьян, я не могу принять по трем причинам.
Во-первых, Рьян, как и представители других подходов, смешивает проблему личностности нарратора с проблемой его выявленное™. Как мы видели, нарратор как повествующая инстанция может быть сильно выявлен, как в рассказе Леонова, не обладая между тем личностным единством, не имея личных человеческих черт. Выявленность нарратора основывается на присутствии в тексте индициальных знаков, в то время как личностное единство его образа — на схождении всех симптоматических линий в одном гомогенном облике.
Во-вторых, я не принимаю дихотомического подхода к трактовке выявленное™. Степень выявленное™ не сводится лишь к двум полярным возможностям, таким как «личностность» или «безличностность», «объективность» или «субъективность» и т. п. Выявленность образует континуум, распространяющийся между максимальным и минимальным присутствием индициальных знаков. Минимальное присутствие, однако, никогда нулевым не становится. В конечном счете даже хемингуэевский тип наррации (или «не-наррации», по Чэтману) не лишен определенных признаков оценки, если даже не эксплицитной, то, по крайней мере, имплицитной, основывающейся на подборе, конкретизации и композиции повествуемых элементов (прежде всего реплик персонажей). Что же касается языка, не является ли подчеркнутая сухость, скупость, редуцированность хэмингуэевской наррации также специфической чертой, выражающей определенный тип нарратора? 74
В-третьих, утверждение Рьян (1981, 523), что в «безличном» повествовании «субститут говорящего» (substitutespeaker), т. е. нарратор, и «действительный говорящий» (actualspeaker), т. е. автор, так близки, «что читателю не приходится реконструировать нарратора как автономное сознание, стоящее между сознанием автора и персонажей», мне кажется упрощающим. Минимально выявленные, казалось бы, «объективные» нарраторы, повествующие целиком персонально, т. е. излагающие события с точки зрения персонажей, нередко оставляют при
передаче внутренней речи персонажа следы переакцентировки, иронической интонации, знаки своей добавочной, чаще всего противоположной оценки. Это происходит в тексте прежде всего при помощи подбора, конкретизации, комбинации и языкового оформления отдельных слов и фраз из текста персонажа.
В качестве примера переакцентировки слов персонажа нарратором приведу начало повести Ф. Достоевского «Вечный муж», составленное почти исключительно из отрезков текста героя, которые излагаются то в завуалированном виде, посредством несобственно-прямой или несобственно-авторской передачи, то в открытом виде, при помощи прямой цитаты: Пришло лето — и Вельчанинов, сверх ожидания, остался в Петербурге. Поездка его на юг России расстроилась, а делу и конца не предвиделось. Это дело — тяжба по имению — принимало предурной оборот. Еще три месяца назад оно имело вид весьма несложный, чуть не бесспорный; но как-то вдруг все изменилось. «Да и вообще все стало изменяться к худшему!»— эту фразу Вельчанинов с злорадством и часто стал повторять про себя. <...> Квартира его была где-то у Большого театра, недавно нанятая им, и тоже не удалась; «все не удавалось!» Ипохондрия его росла с каждым днем; но к ипохондрии он уже был склонен давно (ДостоевскийФ. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 9. С. 5).
Многие объяснения, предлагаемые «объективным», казалось бы, нарратором («Поездка его на юг России расстроилась»; «Это дело — тяжба по имению — принимало предурной оборот»; «как-то вдруг все изменилось»; «Квартира его... тоже не удалась»; «Ипохондрия его росла с каждым днем; но к ипохондрии он уже был склонен давно»), оказываются в контексте не только заимствованными из сознания героя, но и мало оправданными. Каждой из приводимых мотивировок противоречит действительная причинно-следственная связь мотивов, обнажающаяся постепенно в течение наррации (ср. Шмид 1968). Проис-75
ходящие из сознания героя «псевдообъективные» объяснения нарратор акцентирует иронически, как бы тем самым намекая на свою собственную оценочную позицию, которая в тексте эксплицитно не выражена. В дальнейшем акцентировка подсказывается частым употреблением кавычек, служащих маркировке чужого слова, с одной стороны, и дистанцированности нарратора, с другой:
Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта «старость» — как он сам выражался — пришла к нему «совсем почти неожиданно». <...> В сущности это были чаще и чаще приходившие ему на память, «внезапно и бог знает почему», иные происшествия... Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припомнилась ему забытая — и в высочайшей степени забытая им фигура добренького одного старичка чиновника, седенького и смешного, оскорбленного им когда-то... И когда теперь припомнил «ни с того ни с сего» Вельчанинов о том, как старикашка рыдал... (Там же. С. 5—8).
Смысловая позиция этого нарратора осуществляется почти исключительно на материале чужого сознания и чужой речи. Тем не менее присутствует она как имплицитно изображаемая позиция «автономного ума» . Идентифицировать самого автора — конкретного или абстрактного — с носителем этой позиции нет основания. Ирония не обязательно является указателем самой высокой позиции в оценочной иерархии.
Итак, обобщить мою позицию по выше поставленным вопросам можно следующим образом. Повествовательный текст не может быть полностью свободным от симптомов. Поскольку текст неизбежно содержит индексы имплицитного изображения, хотя бы в самой редуци-
34 Ср. в этой связи понятия Лео Шпитцера (1923) «псевдообъективная мотивация» и «псевдообъективная речь», применяемые к роману Шарля Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса», где многие обосновывающие предложения, хотя и появляются в речи нарратора, все же выражают мысли действующих персонажей, доводы, на которые они ссылаются.
35 Еще радикальнее, чем Рьян, оспаривает автономный статус нарратора Юр-ген Петерсен (1977, 176—177), считающий, что всякий нарратор «от третьего лица», в отличие от нарратора «от первого лица», как бы субъективен он ни был, принципиально лишен «персональности» (Personalitat), т. е. «повествующий медиум не предстает в сознании читателя как персона». В случае иронической оценки, постулирует Петерсен,
ирония касается только повествуемого, никак не характеризуя нарратора, «потому что тот, не имея
персональности, не может иметь и никаких свойств характера». Не движется ли такая аргументация в
порочном кругу?
76
рованной форме, мы исходим из того, что в каждом повествовательном произведении неизбежно
присутствует нарратор .
Абстрактный автор или нарратор?
Если содержащиеся в повествовательном тексте индициальные знаки выражают как абстрактного автора, так и нарратора, то в каждом конкретном случае возникает вопрос, к какой именно из этих двух инстанций следует отнести найденные индексы. Это — герменевтическая проблема, которая должна решаться в ходе анализа текста. И все же можно найти общую закономерность, которая дает возможность ориентироваться даже в том случае, когда имеется парадоксальная игра с повествовательными уровнями (характерная, в частности, для нарративов постмодернизма). Вымысливание излагаемых событий и излагающего их нарратора — это дело автора. В этом плане все индексы указывают на абстрактного автора как на конечную ответственную инстанцию. Подбор повествуемых элементов из событий, соединение этих элементов друг с другом для создания конкретной истории, их оценка и обозначение — все эти операции свидетельствуют о нарраторе, в компетентность которого они входят.
Если в словесной ткани повествования проявляется нарратор, то языковое оформление диалогов характеризует персонажей. Во всех словесных проявлениях персонажей, однако, присутствует и доля нарратора, который подбирает слова героев и, в случае косвенной и несобственно-прямой речи, передает их, в большей или меньшей степени подвергая их нарраториальной обработке (см. главу V).
Все акты, в которых так или иначе выражается нарратор, в конечном счете выступают также индексами абстрактного автора, созданием которого и является нарратор. Но акты персонажей и нарратора приобретают индициальную функцию для абстрактного автора не прямо, а с
В книге о Достоевском (1973, 26) я придерживался еще другой позиции, допуская тогда возможность полного отсутствия симптомов и тем самым безнарраторского нарратива. Это подверглось справедливой критике (де Хаард 1979, 98; Харвег 1979, 112—113; Линтфельт 1981, 26; Пенцкофер 1984, 29). При этом де Хаард (1979, 98) отметил, что такая позиция не совместима с моей моделью коммуникативных уровней и с теорией текстовой интерференции. 77
некоторым преломлением, со сдвигом, который мы учитывали в модели семантической иерархии (ср. выше с. 56). Выражению авторской позиции служит не только сама нарраторская позиция, но и ее взаимоотношения с нарраторским выражением и нарраторским содержанием. В свою очередь, нарраторское выражение основывается, помимо всего прочего, и на взаимоотношениях между выражением и содержанием в репликах персонажей.
Наконец следует здесь отметить важную разницу между индициальным присутствием нарратора и абстрактного автора. Индексы, указывающие на нарратора, осуществляют замысел автора. С их помощью автор изображает нарратора, делая его фиктивной инстанцией, своим объектом. Индексы, указывающие на самого автора, являются, как правило, не намеренными, а невольными. Ведь автор обычно не намеревается изображать самого себя, превращать себя в фиктивную фигуру . Самовыражение автора, как правило, столь же непроизвольно, как и невольное самовыражение любого говорящего.
Типология нарратора
С самого начала в центре внимания нарратологии оказалась типология нарратора и его точки зрения, разветвляющаяся все больше и больше. Если Пэрси Лаббок (1921) различал четыре типа нарратора или точки зрения, а Норман Фридман (1955) — восемь, то немецкий ученый Вильгельм Фюгер (1972) приходит на основе трех комбинированных критериев к типологии, охватывающей уже 12 типов (см.: Линтфельт 1981, 111—176). Между тем систематика таких дифференцированных типологий не всегда убедительна, и их польза не очевидна. В них, как правило, смешиваются и подменяют друг друга тип нарратора и тип точки зрения. Лежащие в основе типологии критерии нередко определяются недостаточно четко, а типам, определенным при помощи умозрительных критериев, не всегда соответствует реальный случай в литературе. Все эти три недостатка наблюдаются в типологии Фюгера, которая больше всего страдает от амбивалентности основной антитезы «внешняя позиция» (Aufienposition) — «внутренняя позиция»
(Innenpo-
37
Утверждение, что тот или другой автор в процессе написания произведения сознательно или несознательно создает свой образ, относится, разумеется, к биографическим спекуляциям. 78
sition) нарратора. Как и Эрвин Лейбфрид (1970, 245—248), у которого заимствована эта дихотомия, Фюгер смешивает две разные вещи — 1) участие нарратора в повествуемой истории, 2) точку зрения нарратора. Такая двузначность обусловлена тем, что как Лейбфрид, так и Фюгер употребляют понятие «нарратор» в крайне широком смысле как обозначение «центра ориентации», которым может быть и собственно нарратор как повествующая инстанция, и персонаж как воспринимающая инстанция, «рефлектор» (термин Г. Джеймса). Разумеется, такое расширительное толкование ключевого понятия лишает ясности основанную на нем типологию. Как схема различений, имеющая эвристический, а не онтологический характер, типология нарратора должна быть проста и должна учитывать только элементарные критерии, не претендуя на статус исчерпывающей картины исследуемого явления.
В основе такой типологии нарратора (категория точки зрения рассматривается нами отдельно) должны лежать следующие критерии и типы (некоторые из них пересекаются или частично совпадают):
Критерии |
Типынарратора |
способ изображения |
эксплицитный — имплицитный |
диегетичность |
диегетический — недиегетический |
степень обрамления |
первичный — вторичный — третичный |
степень выявленное™ |
сильно — слабо выявленный |
личностность |
личный — безличный |
антропоморфность |
антропоморфный — неантропоморфный |
гомогенность |
единый — рассеянный |
выражение оценки |
объективный — субъективный |
информированность |
всеведущий — ограниченный по знанию |
пространство |
вездесущий — ограниченный по местонахождению |
интроспекция |
внутринаходимый — вненаходимый |
профессиональность |
профессиональный — непрофессиональный |
надежность |
ненадежный (unreliable) —надежный (reliable) |
79
Первичный, вторичный и третичный нарратор
По месту, которое нарратор занимает в системе обрамляющих и вставных историй, мы различаем первичного нарратора, т. е. повествователя обрамляющей истории, вторичного нарратора, повествователя вставной истории, третичного нарратора и т. д.
Примеры всех трех типов нарратора мы находим в «Станционном смотрителе» Пушкина. Первичный нарратор — это сентиментальный путешественник, который повествует о трех своих посещениях почтовой станции. Вторичный нарратор — станционный смотритель Самсон Вырин, рассказывающий путешественнику историю об увозе своей бедной дочери Дуни. Как третичные нарраторы выступают в рассказе Вырина немецкий лекарь, который рассказывает обманутому отцу о своем сговоре с Минским, и ямщик, сообщающий о поведении Дуни, уехавшей с гусаром. Само собою разумеется, что прилагательные «первичный», «вторичный» и т. д. не означают никакой иерархической градации. Дело здесь исключительно в степени обрамления (того, что по-английски называется embedding). Конечно, вторичный нарратор «Тысячи и одной ночи» Шехерезада важнее первичного нарратора, как и повествующий мерин в рассказе Л. Толстого «Холстомер» привлекает к себе больший интерес, чем первичный нарратор, который повествует о нем. Вообще говоря, нередко первичные нарраторы служат просто мотивировкой вставных
„39
истории .
Эти термины (primary, secondary, tertiarynarrator) введены Бертилем Ромбергом (1962, 63). Они кажутся мне более удобными, чем сложная система терминов, введенных Женеттом (1972, 237—241): «экстрадиегетическое» повествование» (= первичное повествование), «диететическое», или «интрадиегетическое», повествование (= вторичное повествование), «метадиегетическое» повествование (= третичное повествование). Префикс мета- в последнем термине означает, по объяснению Женетта (1972, 238, примеч. 1), «переход на вторую ступень». Позднее Женетт (1983, 61) защищает этот термин от оправданной, с моей точки зрения, критики (Бал 1977, 24, 35; 19816; Риммон 1983, 92, 140). Нецелесообразно осложнять несложное явление рамочных структур терминологией, резко противоречащей обычному словоупотреблению. О преимуществе традиционной терминологии ср. также: Ян, Нюннинг (1994, 286-287).
Об основных типах отношений между обрамляющими, первичными и вставными, вторичными историями см.: Леммерт 1955, 43—67; Женетт 1972, 242—244. 80
Повествуемое в речи вторичного нарратора образует мир, который я предлагаю назвать цитируемый мир, так как эта речь фигурирует как цитата в речи первичного нарратора. Цитатность вторичных и всех дальнейших вставных рассказов может быть актуализирована различными способами: стилистическим приближением вторичной речи к речи первичного нарратора, комментирующими вкраплениями последнего и, прежде всего, использованием первичным нарратором вторичного рассказа в своих целях.
Технические проблемы введения вторичных рассказов остро осознавал Ф. Достоевский. Так, в записных тетрадях к роману «Подросток», колеблясь между рассказами «от третьего и первого лица», автор взвешивает выгоды и невыгоды той или другой техники:
Если отЯ, то придется меньше пускаться в развитие идей, которых подросток, естественно, не может передать так, как они были высказаны, а передает только суть дела (ДостоевскийФ. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 16. С. 98).
Хотя нарратор-подросток, озабоченный эффектом, производимым его стилем на читателя, вполне аутентично воссоздает черты речи других персонажей как в аспекте содержания, так и в аспекте стиля, его не перестает волновать вопрос о мотивировке своих полномочий:
Рассказ бедной женщины был в иных местах и бессвязен. Расскажу,
как сам понял и что сам запомнил (Там же. Т. 13. С. 142).
Рассказ вторичного нарратора Макара Долгорукого о купце Скотобойникове, выдержанный в архаично-народном сказе и отражающий религиозное мышление Макара, решительно выходит за границы языкового и умственного кругозора подростка. Недостаточность мотивировки признана и им самим (первичным нарратором), и автором романа:
Желающие могут обойти рассказ, тем более что я рассказываю его слогом (Там же. С. 313).
Диегетический и недиегетический нарратор
Главным в определении типов нарратора является противопоставление диегетического и
недиегетического нарратора. Эта дихотомия характеризует присутствие нарратора в двух планах
изображаемого мира — в
81
плане повествуемой истории, или диегесиса40, и в плане повествования, или экзегесиса41.
Диегетическим будем называть такого нарратора, который повествует о самом себе как о фигуре в
диегесисе. Диегетический нарратор фигурирует в двух планах — ив повествовании (как его
субъект), и в повествуемой истории (как объект). Недиегетический же нарратор повествует не о
самом себе как о фигуре диегесиса, а только о других фигурах. Его существование ограничивается
планом повествования, «экзегесисом» .
Диегетический нарратор распадается на две функционально различаемые инстанции —
повествующее «я» и повествуемое «я» , между тем как недиегетический нарратор фигурирует
только в экзегесисе.
40
Под «диегесисом» (от греч. 5|Г|уПСТ|С; «повествование») я разумею «повествуемый мир». Прилагательное «диегетический» означает «относящийся к повествуемому миру». Понятие «диегесис» имеет в современной нарратологии другое значение, нежели в античной риторике (ср. Веймар 1997). У Платона понятие «диегесис» обозначает «собственно повествование», в отличие от «подражания» (мимесиса) речи героя. Новое понятие было введено теоретиком кинематографического повествования Этьен Сурио (1951; 1990, 581), определявшим понятие diegeseкак «изображаемый в художественном произведении мир». Женетт (1972, 278—279) определяет это понятие, заимствованное из работ по теории кино, в обычном словоупотреблении как «пространственно-временной универсум, обозначаемый повествованием», а слово «диегетический» в обобщенном виде — как «то, что относится или принадлежит к [повествуемой] истории».
41
Понятие «экзегесис» (от греч. е^пуПСТ|С; «объяснение», «истолкование»), употребляемое в «Грамматике» Диомеда (IV век н. э.) как синоним слов апауу?^'а и narratioдля обозначения собственно повествования, относится к тому плану, в котором происходит повествование и производятся всякого рода сопровождающие изложение истории объяснения, истолкования, комментарии, размышления или метанарративные замечания нарратора.
42
Отправляясь от античного словоупотребления, Е. В. Падучева (1966, 203) именует не-диегетического нарратора «экзегетическим». Но введенное ею противопоставление «экзегетический — диететический» не совсем правильно моделирует асимметричность этих двух типов нарратора. «Диететического» нарратора, собственно говоря, следовало бы назвать «экзегетическим-диегетическим», поскольку он фигурирует и в том и в другом плане. Так как принадлежность к экзегесису не является признаком различительным, отдается здесь предпочтение чистой оппозиции бинарных признаков «диегетический — недиегетический».
В немецкоязычной теории эти инстанции называются обычно «повествующим» и «переживающим» «я» [erzahlendes—erlebendesIch) (ср. Шпитцер 1928, 471 и независимо от него: Штанцель 1955, 61—62). В англоязычной науке эти термины были переведены как narrating—experiencingself(ср. Кон 1981, 180). 82
диегетический |
нарратор |
недиегетическийнарратор |
экзегесис |
+ (повествующее «я») |
+ |
диегесис |
+ (повествуемое «я») |
- |
Говорить о том, что диегетический нарратор «входит во внутренний мир текста», как это делает Е. В. Падучева (1966, 203), можно только с некоторой оговоркой. Нарратор как повествующая инстанция остается вне рамок «внутреннего», вернее, повествуемого мира. В повествуемый мир входит только более раннее «повествуемое я» нарратора.
Недостаточно точно и утверждение Любомира Долежела (1973, 7), что нарратор бывает иногда «идентичным» с одним из персонажей действия. С персонажем идентичен не нарратор как нарратор, т. е. повествующее «я», а его прежнее повествуемое «я». Невозможно согласиться и с выводом, сделанным Долежелом, что с превращением нарратора в участника повествуемых действий персонаж перенимает характерные для нарратора функции «изображения» (representation) и «контроля» (control), причем оппозиция между нарратором и персонажем снимается. У Долежела здесь происходит смешение функциональных признаков с материальными. Нарратор как носитель повествовательной функции становится персонажем (или актором) лишь тогда, когда о нем повествует нарратор более высокой ступени, а персонаж (актор) может стать нарратором только тогда, когда он приобретает функцию вторичного нарратора. Противопоставление «диегетический — недиегетический» соответствует, по сути дела, женеттовской оппозиции «гомодиегетический— гетеродиегетический» (Женетт 1972, 253). Но терминология Женетта, требующая сверхвнимательного читателя и дисциплинированного «пользователя», обнаруживает в систематике и словообразовании некую неясность: что именно является «одинаковым» или «различным» в «гсшодиегетическом» и «гегаеродиегетическом» нарраторе? Кроме того, префиксы гетеро- и гомо- легко перепутать с экстра-, интра- и мета-, префиксами, обозначающими ступень, т. е. первич-83
ность, вторичность, третичность нарратора44. Для женеттистов, количество которых и в России возрастает после выхода в свет перевода «Фигур» (Женетт 1998), приведу таблицу соотношения названий основных типов нарратора:
ТерминологияЖенетта |
Предлагаемаятерминология |
экстрадиегетический-гетеродиегетический нарратор |
первичный недиегетический нарратор |
экстрадиегетический-гомодиегетический нарратор |
первичный диегетический нарратор |
интрадиегетический-гетеродиегетический нарратор |
вторичный недиегетический нарратор |
интрадиегетический-гомодиегетический нарратор |
вторичный диегетический нарратор |
метадиегетический-гетеродиегетический нарратор |
третичный недиегетический нарратор |
метадиегетический-гомодиегетический третичный диегетический нарратор нарратор
Наше противопоставление «диегетический — недиегетический», основывающееся на участии лица нарратора в двух планах нарратива, призвано заменить традиционную, но вызывающую много недоразумений оппозицию «нарратор от первого лица» (Ich-Erzahler) — «нарратор от третьего лица» (Er-Erzahler). Грамматическая форма не должна лежать в основе типологии нарратора, поскольку любой рассказ ведется, собственно говоря, от первого лица, даже если грамматическое лицо в тексте выражено не эксплицитно. Не наличие форм первого лица, а их функциональная отнесенность является различительным признаком: если «я» относится только к акту повествования, то нарратор является недиегетическим, если же «я» относится то к акту повествования, то к повествуемому миру — диегетическим.
44
Впрочем, диететического нарратора можно было бы назвать «интрадиегетическим», поскольку он фигурирует как повествуемое «я» в диегесисе, а недиегетического — «экстрадиегетическим», так как он остается вне диегесиса. Но в этом случае получилась бы полная путаница с широко распространенной терминологией Женетта, у которого интра- и экстра- обозначают другие структуры. 84
В соответствии с двойным существованием диегетического нарратора, фигурирующего как актор в диегесисе и как нарратор в экзегесисе, употребление грамматических форм первого лица может относиться и к тому, и к другому плану.
типнарратора |
отнесенностьформпервоголица |
недиегетический |
«я» => экзегесис |
диегетический |
«я» => экзегесис + диегесис |
В недиегетическом повествовании нередко наблюдается полное отсутствие форм первого лица. Это, однако, не значит, что нарратор вовсе отсутствует. Он может оценивать повествуемое, комментировать его и т. д., не называя себя. Отсутствие форм первого лица возможно также и в диегетическом повествовании. Диегетический нарратор может повествовать о себе как о третьем лице, называя себя только по имени, как это делает Цезарь в «Записках о галльской войне». В русской литературе есть несколько примеров такой техники, мотивированной, как в рассказе И. Бунина «У истока дней», тем, что повествующее «я» смотрит на себя-ребенка как на другое лицо. В «Хлыновске» К. Петрова-Водкина нарратор описывает даже собственное рождение . Приведу отрывки из повести В. Астафьева «Ода русскому огороду», где повествующее «я» обозначается местоимением первого лица, а повествуемое «я» называется «мальчик»:
Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, — слышишь? — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. <...>
...беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженого, конопатого, — неужто он был мною, а я им?! {АстафьевВ. П. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1979. С. 442-443). И тут начинается автобиографический рассказ диегетического нарратора, ведущийся от третьего лица: «Дом мальчика стоял лицом к реке...» (Там же).
Особым является случай, когда нарратор, сначала казавшийся недиегетическим, в течение повествования оказывается повествую-
45
О том и другом примере ср. Кожевникова 1994, 18. 85
щим о самом себе. В рассказе «Тяжелый дым» В. Набокова, поначалу создающем видимость недиегетического рассказа, отдельные немотивированные, как бы нечаянные вкрапления форм первого лица вдруг указывают на то, что описываемый «плоский юноша в пенсне» является не кем иным, как самим нарратором:
Выходя из столовой, он еще заметил, как отец всем корпусом повернулся на стуле к стенным часам с таким видом, будто они сказали что-то, а потом начал поворачиваться обратно, но тут дверь закрылась, я не досмотрел (НабоковВ. Тяжелый дым: Избр. проза. М., 1996. С. 346).
Противоположное явление можно наблюдать в повести Набокова «Соглядатай»: после своего «самоубийства» диегетический нарратор обозначает словом «я» исключительно повествующее «я», между тем как уцелевшее повествуемое «я» впредь фигурирует только как третье лицо по имени Смуров, идентичность которого с нарратором читатель осознает, если осознает вообще, не
сразу.
Крайний случай диегетического нарратора без каких бы то ни было прямых указаний на его присутствие как в диегесисе, так и в экзегесисе представляет собой повествующая инстанция в романе А. Роб-Грийе «Ревность» («La Jalousie», 1957). При радикальном опущении повествуемого «я» и при нулевой автотематизации повествующего «я» все же получается впечатление, что в этом «новом романе» повествует ревнивый муж о возможной неверности своей жены, о ее возможной связи с другом обоих супругов. О присутствии повествуемого «я» в диегесисе позволяет делать выводы только констелляция остро наблюдаемых предметов — вокруг стола поставлены три стула, на столе накрыто три прибора и т. д. Повествуемое «я» фигурирует лишь как тот, который может занять третье место за столом. А повествующее «я» воплощено в крайне объективном, техническом взгляде на предметы, преувеличенная и нефункциональная точность которого свидетельствует о подавляемой ревности наблюдателя.
Такая конструкция нарратора, скрывающего свою тождественность с персонажем, встречается иногда в детективных произведениях, где повествующее «я» — сыщик, а повествуемое «я» — преступник. В постмодернизме завуалированный диегетический рассказ служит постановке общего вопроса об идентичности человека. Один из образцов — рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Форма сабли», в котором нарратор признается, что он на самом деле тот подлый доносчик, о котором 86
он до тех пор отзывался с презрением, говоря о нем «в третьем лице» .
Если противопоставление грамматических форм отпадает как критерий для типологии, то как же
быть с «рассказом от второго лица» , который во многих типологиях фигурирует как
разновидность «рассказа от первого лица» (ср., напр., Фюгер 1972, 271)? В зависимости от того,
появляется ли нарратор только в экзегесисе или также в диегесисе, такой нарратор будет или
диегетическим, или недиегетическим. Рассмотрим один из самых известных примеров Du-
Erzahlungв русской литературе, очерк Л. Толстого «Севастополь в декабре месяце»:
Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили
дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых
тяжело раненых больных, одних на койках, большею частью на
полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает
вас на пороге залы, — это дурное чувство, — идите вперед, не
стыдитесь подойти и поговорить с ними (ТолстойЛ. Н. Полн. собр.
соч.: В 90 т. Т. 4. С. 75).
К вопросу, является ли нарратор здесь диегетическим или недиегетическим, можно подойти по-разному. Если считать настоящее «вы» фиктивного читателя тождественным прежнему нарратору, который в завуалированном виде, под маской второго лица восстанавливает свои собственные впечатления, то перед нами диегетический нарратор. Если же такого уравнения не устанавливать, то нарратор предстает как не диегетический.
Предлагаемое противопоставление «диегетический — недиегетический» не совпадает с тремя оппозициями, которые могут показаться с ним сходными.
Во-первых, оно отличается от оппозиции «эксплицитный — имплицитный». Недиегетического нарратора не следует отождествлять с «имплицитным», как это делает Падучева (1996, 203), исходившая из того, что «экзегетический повествователь... это рассказчик, не называющий себя». «Экзегетический повествователь», т. е. недиегетический нарратор, может выступать как исключительно имплицитный, и таким он предстает в большинстве случаев, начиная с эпохи реализма, но он может также быть эксплицитным, т. е. прямо называть себя (как повест-46 Ср. Женетг 1972, 255.
47
Разные варианты «рассказа от второго лица» рассмотрены в: Корте 1987; Флудерник 1993; 1994. 87
вующее «я»). На раннем этапе в истории повествовательной прозы и в русской, и в западных литературах преобладал именно тип эксплицитного недиегетического нарратора, не боящегося говорить о самом себе и обращаться к «почтенному» читателю. Таковы, например, почти все нарраторы Н. Карамзина. Приведу начало повести «Наталья, боярская дочь»:
Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю
сии времена... (КарамзинН. М. Избр. произв. М., 1966. С. 55).
Следует заметить, что диегетический нарратор не обязательно эксплицитен, как показывают выше упомянутые случаи диегетического рассказа «от третьего лица». Если нарратор повествует о самом себе «от третьего лица», он может не называть себя как повествующее «я». Во-вторых, противопоставление «диегетический — недиегетический» не совпадает с оппозицией «личный — безличный», предлагаемой Ю. Петерсеном (1977, 176), считающим, что Er-Erzahlerотличается от Ich-Erzahlerпринципиальным отсутствием «персональное™» (Personal!tat) (см. выше примеч. 35). К Петерсену близок Штанцель (1979, 119—124), приписывающий как повествующему, так и повествуемому «я» в романе «от первого лица» особую «телесность» (Leiblichkeit). Несомненно, недиегетический рассказ (опять-таки со времен реализма) тяготеет к минимализации личностности нарратора, к его редукции до некоторых оценочных позиций, иронических акцентов и т. п. Но в дореалистическом повествовании недиегетический нарратор, как правило, сохраняет личностные черты. Наглядные примеры и в этом отношении мы находим в повестях Карамзина. Рассмотрим начало «Бедной Лизы», где представлен нарратор, наделенный личными чертами чувствительного человека:
Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые и приятные места или в старых новые красоты. <...> Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические баш-
88
ни Си...нова монастыря (КарамзинН. М. Соч.: В 2 т. Т. 1. Л., 1984. С. 506).
С другой стороны, диегетический нарратор как повествующее «я» не обязательно более личен, субъективен, чем нарратор недиегетический. Он также может быть редуцирован до безличного голоса, если акцент ставится на повествуемом «я».
В-третьих, предлагаемые различения не затрагивают проблемы точки зрения или перспективы. Смешение двух категорий — участия нарратора в диегесисе и точки зрения — является ошибкой, часто встречающейся в типологических построениях. Самый известный пример такого смешения — «круг типов повествовательных ситуаций» (TypenkreisderErzahlsituationen), выдвинутый Ф. Штанцелем (1964; 1979), где «аукториальной» (auktoriale) и «персональной» (personate) «повествовательным ситуациям» противопоставляется «ситуация от первого лица» (Ich-Erzahlsituation). Если первые два типа, связанные с повествователем «от третьего лица», отличаются точкой зрения, то третий тип, по Штанцелю, определяется исключительно присутствием нарратора в повествуемой истории. Несмотря на ряд критических отзывов нарратологов на эту тему , Штанцель так и не принял довод, что здесь смешаны два разных критерия и что в «рассказе от первого лица» точка зрения может быть и «аукториальной», и «персональной».
Экскурс. Колебание Достоевского между диегетическим и недиегетическим нарратором в романе «Подросток»
Есть исследователи, сомневающиеся в релевантности противопоставления «диегетического — недиегетического» нарратора. Бут (1961, 150), например, такую дихотомию считает преувеличением: «Констатация того, что рассказ повествуется от первого или третьего лица, ничего важного в себе не несет». Такому заключению, однако, полностью противоречит литературная практика. Штанцель (1979, 114—116) приводит характерные примеры, где авторы по разным художественным соображениям транспонировали начатый роман из одной формы в другую — из недиегетической в диегетическую (Г. Келлер.
48
Ср., напр., Лейбфрид 1970, 246; Кон 1981; Петерсен 1981; Брейер 1998. 89
«Зеленый Генрих») и наоборот — из диегетической в недиегетическую (Ф. Кафка. «Замок»). В этой связи крайне показательны записные тетради Достоевского к роману «Подросток». Первоначально Достоевский задумал роман с недиегетическим нарратором и «ИМ» (Версиловым) как главным героем. Однако 11 июля 1874 г. автор записывает: ГЕРОЙ не ОН, а МАЛЬЧИК.
История мальчика: как он приехал, на кого наткнулся, куда его определили. Повадился к профессору ходить; бредит об университете, и идея нажиться (ДостоевскийФ. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 16. С. 24).
В записи от 12 августа он принимает «ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ»: «Писать от себя. Начать словом: Я» (С. 47), и набрасывает заглавие романа:
ПОДРОСТОК. ИСПОВЕДЬ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА, ПИСАННАЯ ДЛЯ
СЕБЯ (С. 48).
В связи с этим он делает для себя замечание о неизбежно ограниченной компетентности молодого
нарратора:
Подростку, в его качестве молокососа, и не открыты (не открываются и ему их не открывают) происшествия, факты, [составляющие] фабулу романа. Так это он догадываетсяоб них и осиливает \лхсам. Что и обозначается во всей манере его рассказа (для неожиданности для читателя) (С. 48—49).
Через неделю после этого Достоевский повторяет:
ГЛАВНОЕ NB. ПОДРОСТОК ВЕДЕТ РАССКАЗ ОТ СЕБЯ. Я, Я (С. 56).
Однако вопрос еще не решен окончательно. В тот же день (15 августа) Достоевский взвешивает
возможность все же писать «от третьего лица»:
Если писать не от лица подростка (Я), то — сделать такую манеру, что<б> уцепиться за подростка как за героя... так что... все <персонажи> описываются лишь ровно настолько... насколько постепеннокасаютсяподростка. Прекрасноможетвыйти {С. 60).
Возвращаясь 26 августа к идее о романе «от Я», Достоевский перечисляет выгоды такой техники: 90
Обдумывать рассказ от Я. Много выгоды; много свежести, типичнее выдается лицо подростка. Милее. Лучше справлюсь с лицом, с личностью, с сущностью личности. <...> Наконец, скорее и сжатее можно описать. Наивности. Заставить читателя полюбить подростка. Полюбят, и роман тогда прочтут. Не удастся подросток как лицо — не удастся и роман. Задача: обдумать все pro и contra. ЗАДАЧА(С. 86).
Из этих записок явствует, какое значение автор придавал центральной личности как объединяющему весь роман началу. Именно поэтому Иоханнес Хольтхузен (1969, 13) пишет справедливо о «персоналистской концепции романного героя у Достоевского». 2 сентября Достоевский резюмирует proи contra. Как бы уговаривая самого себя, он подсчитывает все выгоды манеры «от Я», отдавая себе отчет и в ее опасности:
От Я—оригинальнее и больше любви, и художественности более требуется, и ужасно смело, и короче, и легче расположение, и яснее характер подросткакак главного лица, и смысл идеи как причины, с которою начат роман, очевиднее. Но не надоест ли эта оригинальность читателю? Выдержит ли это Ячитатель на 35 листах? И главное, основные мысли романа — могут ли быть натурально и в полноте выражены 20-летним писателем? (С. 98).
Итак, решение в пользу диегетического нарратора было вынесено Достоевским в результате долгих размышлений о воздействии того или другого видов изложения на читателя.
Типы диегетического нарратора
Повествуемое «я» может в диегесисе присутствовать в разной степени. Женетт (1972, 253—254) допускает только две степени этого присутствия, предполагая, что повествователь (вернее — повествуемое «я») не может быть заурядным статистом — повествователь может быть либо главным героем («автодиегетический нарратор», пример: «Жиль Блаз» Лесажа), либо наблюдателем и очевидцем (пример: доктор Ватсон у Конан-Дойля). Сюзан Лансер (1981, 160), оставаясь в рамках женеттовской терминологии, предложила более детальную схему, включающую градацию из пяти степеней участия в диегесисе и соответствующих отдалений от
«гетеродиегетического», т. е. недиегетического нарратора. Схема эта является не только
теоретически прием-
91
лемой, но и практикабельной. Переводя ее женеттовскую терминологию, мы получаем
следующую схему:
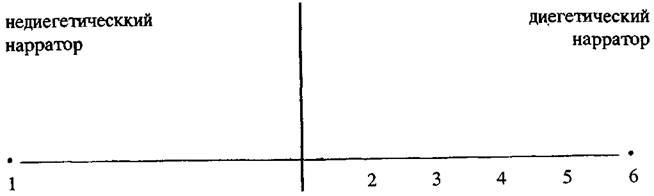
1: Непричастный нарратор (не присутствующий в повествуемой истории) 2: Непричастный очевидец 3: Очевидец-протагонист 4: Второстепенный персонаж 5: Один из главных персонажей 6: Главный герой (нарратор-протагонист) Приведем к типам 2—5 примеры из русской литературы.
Тип 2 — Примером непричастного очевидца будет повествуемое «я» нарратора «Братьев Карамазовых». Анонимный хроникер, который повествует о событиях, разыгравшихся тринадцать лет назад в «нашем» уезде, хотя и присутствовал тогда в мире диегесиса, никакого диегетического значения не имеет. Если автору нужна прямая интроспекция в сознание действующих персонажей, то он заменяет ограниченного хроникера всеведущим и вездесущим недиегетическим нарратором (см. выше с. 66).
Тип 3 — В отличие от анонимного нарратора «Братьев Карамазовых», нарратор в «Бесах» — хроникер Антон Лаврентьевич Г-в, приступивший «к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе», — играет некоторую диегетическую роль. Поскольку его главная задача заключается в реконструкции своих впечатлений и составлении тех «твердых данных» которые он черпал из общей молвы и из противоречивых свидетельств вторичных нарраторов, акцент сделан не на повествуемом, а на повествующем «я». Диегетическое существование этого очевидца-протагониста служит прежде всего мотивировке сложной реконструкции происшедшего. 92
Тип 4 — Второстепенный персонаж, выступающий как диегетический нарратор, — имеет двойную форму в главе «Бэла» лермонтовского «Героя нашего времени». Как в первичном рассказе анонимного путешественника, так и во вторичном рассказе Максима Максимыча в центре стоит не повествуемое «я», а загадочный Печорин, который в первой главе романа видится как бы через двойную призму.
Тип 5 — Повествуемое «я» как один из главных персонажей, встречается в «Станционном смотрителе» и «Выстреле» Пушкина. Путешественник первой повести играет в жизни обоих героев, Вырина и Дуни, несколько двусмысленную роль, поскольку он был дважды «первым». Это из его рук спившийся позднее Вырин получает первый (в рамках повествуемной истории) стакан пунша, да и во второй приезд путешественник развязывает ему язык посредством рома. Кроме того, он выступает, опять-таки в диегесисе, как первый соблазнитель, удостоившись поцелуя Дуни (или как первый мужчина, будящий в ней соблазнительницу). А в «Выстреле» повествуемое «я» играет важную диегетическую роль как собеседник обоих дуэлянтов и как человек, в разных жизненных ситуациях проникающийся их представлениями и ценностями: если в первой главе неопытный юноша находился под впечатлением романтичности Сильвио, то пятью годами позже он, повзрослев и остепенившись, испытывает трепет перед богатством графа . Тип 6 — Повествуемое «я» как главный герой, т. е. собственно автобиографический нарратор, — представлен в «Подростке» Достоевского, где Аркадий Долгорукий — центральная фигура диегесиса. При всей ее детализированности, эта типология, конечно, всех возможных позиций повествуемых
«я» исчерпать не может. Куда отнести, например, «Бедную Лизу»? Вплоть до самого конца повесть рассказывает сильно выявленный, субъективный, личный, но при этом всеведущий, проникающий в самые тайные чувства и мысли своих героев нарратор, который участия в истории, разыгравшейся «лет за тридцать перед сим», не принимал. Только в самом конце, когда после смерти Лизы излагается Nachgeschichte, он сообщает, что познакомился с Эрастом за год до его смерти и что Эраст ему «сию историю» рассказал. Итак, нарратор входит в диегесис на его крайней периферии. Но эта встреча с
49
Ср. подробные анализы: Шмид 1996а, 148, 169. 93
Эрастом, которая служит мотивировке знания нарратора, не делает его, собственно говоря, диегетическим.
Повествующее и повествуемое «я»
Присмотримся поближе к автобиографическому нарратору (к типу 6 по Лансер). Из всех указанных типов он встречается в литературе чаще всего. Классическое автобиографическое повествование подразумевает большое временное расстояние между повествуемым и повествующим «я», представленными как связанные психофизической идентичностью. Образцы автобиографического романа, «Исповедь» Августина, «Симплициссимус» Гриммельсгаузена, а в новейшей литературе — «Приключения авантюриста Феликса Круля» Т. Манна, основаны не только на временной, но также и на этической, психологической дистанции между заблудившимся и согрешившим молодым человеком и резко изменившимся и раскаивающимся зрелым нарратором, пишущим историю своих приключений набожным человеком («Исповедь»), или ушедшим от мира отшельником («Симплициссимус»), или сидящим в тюрьме («Круль»). «В память я хочу воззвать мои отвратительные деяния и разрушение души действиями плоти, не оттого, что я их люблю, но чтобы любить Тебя, Боже мой», — так объясняет предпринятую исповедь повествующее «я» у Августина.
Своеобразный вариант основного типа автобиографического романа создан в «Подростке» Достоевского. Двадцатилетний Аркадий Долгорукий повествует в мае неназванного года о своих приключениях, разыгравшихся с 19 сентября до середины декабря предыдущего года. Долгая жизнь, обычно отделяющая повествующее «я» от повествуемого в основном типе, редуцирована здесь до нескольких месяцев. В данном промежутке времени «я» развивается. Повествующее «я» многим отличается от повествуемого. Этот разрыв, однако, явно преувеличивается самим нарратором, стремящимся отойти от своей наивности прошлого года, когда ему было лишь 19 лет. 19-летнее повествуемое и 20-летнее повествующее «я» также заметно изменяются. В тексте имеются явные симптомы этих изменений: после 19 сентября идея подростка стать Ротшильдом постепенно исчезает. В экзегесисе раздраженный тон и полемика с фиктивным читателем обнаруживаются только в начале романа. К концу Аркадий как бы полностью смиряется 94
с читателем. Такая динамизация «я» в плане диегесиса (от 19 сентября до середины декабря), экзегесиса (около середины мая) и в промежутке (с декабря по май) правдоподобна именно потому, что автор выбрал возраст, в котором человек обычно быстро меняет свои взгляды. Недаром Достоевский отказался от идеи увеличить расстояние между происшествиями и повествованием на четыре года, как он это запланировал в начале.
Для автобиографического нарратора характерна тенденция к некоторой стилизации своего прежнего «я». Эта стилизация часто обнаруживается не в приукрашивании тогдашнего поведения, а наоборот, в изображении его в слишком мрачных тонах. Психологическую логику самоуничижения раскрыл Достоевский. В конце первой главы «Записок из подполья» нарратор признается перед своим адресатом:
... теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие
(ДостоевскийФ. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. С. 122).
Если к отрицательной стилизации нарратора притягивает парадоксальное тщеславие, то автор может соблазниться возможностью создать занимательное напряжение или противоречие между двумя состояниями одного и того же «я».
Идентификация повествующего и повествуемого «я» может оказаться проблематичной. Вольфганг Кайзер (1956, 233; 1958, 209) констатирует: «нарратор от первого лица не является прямым продолжением повествуемой фигуры». Говоря о Феликсе Круле, он предостерегает читателя от безоговорочной идентификации молодого Круля со старым нарратором. На примере романа Г. Мелвилла «Моби Дик» он показывает непреодолимый разрыв между простым моряком, которым является повествуемое «я», и образованным повествующим «я», передающим, впрочем, тайные разговоры и мысли третьих лиц, которые моряку были бы абсолютно недоступны. Последний пример следует, однако, интерпретировать не столько как непоследовательное проведение нарраторской позиции, сколько как колебание между двумя типа-95
ми нарратора: на смену ограниченному в своем знании диегетическому нарратору то и дело приходит всеведущий недиегетический нарратор. Это мы наблюдали уже и в «Братьях Карамазовых» (см. выше, с. 66). Кайзер справедливо ставит под сомнение безоговорочность единства повествующего и повествуемого «я». С изменением взглядов на мир прочное, единое «я» подвергается разложению. Повествующее «я» может относиться к повествуемому «я» как к постороннему человеку .
Единство повествующего и повествуемого «я» может оказаться также под угрозой со стороны повествовательной техники. Во многих диегетических нарративах мы наблюдаем выход повествующего «я» за границы компетентности повествуемого «я», а иногда и за пределы компетентности человека вообще. Нарратор рассказывает в таких случаях больше, чем позволяет ему диегетическая мотивировка. Такое явление (не всегда принимающее форму колеблющейся нарраторской позиции, как, например, в «Братьях Карамазовых») свидетельствует об общей тенденции диегетического рассказа к перерастанию в рассказ недиегетический. Особенную форму проблематичного единства повествуемого и повествующего «я» мы находим в повести чешского прозаика Богумила Храбала «Строго охраняемые поезда» («Ostfe sledovane vlaky», 1965), где нарратор повествует о происшествиях, в течение которых он сам, т. е. его прежнее повествуемое «я», погибает.
Нарратология должна подойти к проблеме диегетического нарратора функционально. Необходимо рассматривать повествующее и повествуемое «я» как две функционально различаемые инстанции, как нарратора и персонажа или, вернее, актора, т. е. носителя действия (ср. Ильин 1996е), которые связаны физическим и психологическим единством, причем это единство может иметь более или менее условный характер. В аспекте нарратологии повествующее «я» относится к повествуемому как в недиегетическом рассказе нарратор к актору (персонажу). Эти соотношения иллюстрируются в следующей схеме:
Ф. Штанцель, хотя и оспаривает тезис Кайзера о встречающемся в некоторых случаях искусственном единстве повествуемого и повествующего «я» (1979, 111—112), в другом месте (1979, 271) сам указывает на «отчуждение» этих инстанций (например, в романе Д. Дефо «Молль Флендерс», где повествуемое «я» героини вместе с размышляющим чужим аукториальным «я» как бы запряжено в хомут единственной персоны). 96
недиегетический |
рассказ |
диегетическийрассказ |
повествовательнаяинстанция |
нарратор |
повествующее «я» |
действующаяинстанция |
актор = персонаж |
актор = повествуемое «я» |
5. Фиктивный читатель (наррататор)
Фиктивный читатель, или наррататор51, — это адресат фиктивного нарратора, та инстанция, к которой нарратор обращает свой рассказ. Название «фиктивный читатель» крайне условно, но не столько оттого, что эта инстанция часто представляется как слушатель, сколько потому, что она всегда предстает лишь как подразумеваемый образ адресата.
Фиктивный адресат и фиктивный реципиент
Фиктивный читатель вторичного, вставного рассказа совпадает, как кажется, с одним из
персонажей первичного, обрамляющего рассказа. Но уравнение наррататор вторичного рассказа = персонаж в первичном рассказе, лежащее в основе многих трактовок этой инстанции (напр., Женетт 1972; 1983), упрощает истину. Наррататор представляет собой лишь схему ожиданий и презумпций нарратора и никогда не идентичен с конкретным персонажем, выступающим в истории высшего уровня как реципиент.
Образ адресата, например, к которому обращается рассказывающий историю своей дочери Самсон Вырин, не совпадает с образом реципиента его рассказа, т. е. чувствительного путешественника, вновь приехавшего на его станцию, не говоря уже об образе нарратора, повествующего о своих трех приездах на эту станцию. Станционный смотри-
Термин «наррататор», введенный Ильиным (1996г), является русским эквивалентом французского понятия narrataire(Женетт 1972, 226; Принс 1973а) и английского narratee(Принс 1971). Впервые использовал дихотомию narrateur—narrataire, по аналогии destinateur—destinataire, P. Барт (1966, 10). 97
тель не может знать о склонности своего посетителя к сентиментальным шаблонам, он даже и понятия не имеет о сентиментализме, и если он оплакивает печальную участь своей «бедной Дуни», то намек на карамзинскую «Бедную Лизу» всплывает только в кругозоре путешественника. Итак, наррататор (или фиктивный «читатель») — это фиктивный адресат, а не фиктивный реципиент. Фиктивный адресат как таковой является всегда проекцией нарратора . Фиктивный реципиент может существовать только тогда, когда вторичный нарратор обращается к читателю или слушателю, фигурирующему как читающий или слушающий персонаж в первичной, обрамляющей истории. Однако вторичный наррататор может совпадать с этим реципиентом (персонажем первичной истории) только материально, но не функционально, потому что адресат и реципиент — это кардинально различные функции53.
Если нарратор ведет диалог с наррататором, то важно, является ли собеседник только воображаемым слушателем или же предстает как независимый, автономный персонаж первичной истории. Только во втором случае, когда собеседник обладает такой автономностью, «другостью», мы имеем дело с подлинным диалогом; в первом же случае перед нами развертывается лишь диалогизированный монолог (см. ниже, с. 105).
Фиктивный и абстрактный читатель
Исследование образа фиктивного читателя было предпринято еще до французских структуралистов в польской нарратологии. Рассмотрим основные подходы. В работе Марии Ясиньской (1965, 215—251) проводится различение между «реальным читателем» (czytelnikrealny) и «эпическим читателем» (czytelnikepicki), причем первый соответствует
52 Поэтому трудно согласиться с различением, предложенным А. Едличковой (1993), между «фиктивным» и «проектированным» адресатом.
53 По поводу моего тезиса о зависимости наррататора от нарратора, проекцией которого он является (Шмид 19746), возразил Клаус Мейер-Миннеманн (1984, 12), настаивая на «принципиальной независимости наррататора от нарратора», поскольку «и тот, и другой созданы (имплицитным) автором». Наши разногласия разрешимы при учете различий 1) между фиктивным адресатом и фиктивным реципиентом и 2) между первичным и вторичным уровнем наррации.
98
конкретному читателю, второй — фиктивному. Различение между абстрактным и фиктивным читателем предвосхищено М. Гловиньским (1967; ср. выше, с. 58), противопоставившим «реципиента в широком смысле» и «реципиента в узком смысле». В своей пятиуровневой схеме ролей в литературной коммуникации А. Окопиень-Славиньска (1971, 125; см. выше, с. 45) противопоставляет «автору» «конкретного читателя» (czytelnikkonkretny), «адресанту произведения» — «реципиента произведения» (pdbiorcautworu), отождествляемого с «идеальным читателем» (czytelnikidealny), «субъекту произведения» — «адресата произведения» (adresatutworu) и «нарратору» — «адресата наррации» (adresatnarracji).
В научной литературе мы нередко сталкиваемся не только со смешением имплицитного и фиктивного читателя, но и с полным отказом от такого разделения. Как мы отметили выше (с. 59), Ж. Женетт (1972, 267) и вслед за ним Ш. Риммон (1976, 55, 58) «экстрадиегетического наррататора» отождествляют с «виртуальным» или «имплицитным» читателем. Женетт даже считает такое отождествление экономным. М. Бал (1977а, 17) называет проведенное мною (Шмид 1973, 23-25, 33—36) разделение между абстрактным и фиктивным читателем «семиотически незначительным». Ссылаясь на М. Тулана (1988), Е. Падучева (1996, 216) объявляет, что «в таком дублировании нет необходимости»: «адресатом повествователя в коммуникативной ситуации нарратива является не представитель читателя, а сам читатель».
Как мы уже установили выше (с. 59), фиктивного читателя следует последовательно отграничивать от абстрактного. Абстрактный читатель — это предполагаемый адресат или идеальный реципиент автора, фиктивный читатель — адресат или идеальный реципиент (читатель или слушатель) нарратора.
Внутритекстовых читателей иногда называют «ролями», в которые конкретный читатель может или должен входить. Но абстрактный читатель в большинстве случаев задуман произведением не как актер, а как зритель или слушатель. Рассмотрим, например, прощальные слова Рудого Панька, нарратора предисловий к «Вечерам на хуторе близ Диканьки»:
Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком. Нет, не хочу! Прощайте!
99
Долго, а может быть, совсем, не увидимся. Да что? ведь вам все равно, хоть бы и не было совсем меня на свете. Пройдет год, другой — и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике Рудом Паньке (ГогольН. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М., 1966. С. 108).
В эту роль высокомерного, бесчувственного человека, смеющегося над стариком-рассказчиком и без сожаления расстающегося с ним, абстрактный читатель, разумеется, не входит. На самом деле адресат произведения предполагается как любитель «малороссийских» народных повестей и сказовой манеры.
Эксплицитное и имплицитное изображение фиктивного читателя
Наррататор, также как и нарратор, может изображаться двумя способами — эксплицитно и имплицитно.
Эксплицитное изображение осуществляется с помощью грамматических форм второго лица или известных формул обращения, как «почтенный читатель», «любезный читатель», «просвещенный читатель» и т. п. . Созданный таким путем образ читателя может наделяться более или менее конкретными чертами. Возьмем в качестве примера «Евгения Онегина». Когда нарратор, принимающий разные облики , выступает как автор, то его адресат предстает как знаток современной русской литературы и поклонник Пушкина:
Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа Без
предисловий, сей же час Позвольте познакомить вас (I, 2).
Герой, наррататор и нарратор связаны топосом Петербурга:
Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где может быть родились вы, Или
блистали, мой читатель; Там некогда гулял и я: Но вреден север для меня (I, 2).
54 Разные варианты образа читателя обсуждает П. Гёч (1983).
55 О разных ролях нарратора в «Евгении Онегине» см.: Семенко 1957; Хильшер 1966, 111—162; Бочаров 1967; Мейер 1968; Шоу 1996.
100
Нередко нарратор употребляет первое лицо множественного числа, чтобы подчеркнуть общность
среды и опыта с адресатом:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть (I, 5).
Присутствие наррататора активизируется предвосхищающими вопросами:
А что Онегин? Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу;
Его вседневные занятья
Я вам подробно опишу (IV, 36—37).
Имплицитное изображение наррататора
Имплицитное изображение наррататора оперирует теми же индициальными знаками и основывается на той же экспрессивной функции, что и изображение нарратора. Вообще можно сказать, что изображение наррататора надстраивается над изображением нарратора, потому что первый является атрибутом последнего, подобно тому как абстрактный читатель входит в
совокупность свойств абстрактного автора (см. об этом выше, с. 58)56. Выявленность наррататора
зависит от выявленное™ нарратора: чем более выявлен нарратор, тем сильнее он способен
вызвать определенное представление об адресате. Однако само присутствие явного нарратора
автоматически еще не подразумевает присутствие наррататора в той же степени явного, как и он
сам.
В каждом нарративе, в принципе, имеется фиктивный читатель, поскольку индексы, указывающие
на присутствие наррататора, как бы слабы они ни были, полностью никогда не исчезают .
К отражаемым текстом свойствам нарратора принадлежит и его отношение к адресату. Для
обозначения наррататора существенны два
В своей влиятельной работе Дж. Принс (1973а) обсуждает «сигналы наррататора» (signauxdunarrataire), поскольку они выходят за границы «нулевого статуса наррататора» (degrezerodunarrataire). Последний конструкт был предметом столь серьезной критики (ср. Принс 1985), что Принс 1982 от него отказался. Но другим законным аргументом, заключающимся в том, что «сигналы наррататора» могут быть расценены и как «характеристика нарратора» (Пратт 1982, 212), Принс (1985, 300) пренебрегает как «тривиальным». Тем самым я отступаю от ранее выдвигавшегося мною тезиса о возможности неприсутствия в повествовательном тексте наррататора (Шмид 1973, 29; 1986, 308), который подвергся критике, например, у Роланда Харвега (1979, 113). 101
акта, характеризующие это отношение, — апелляция и ориентировка. Апелляция — это чаще всего имплицитно выраженный призыв к адресату занять определенную позицию по отношению к нарратору, к его рассказу, к повествуемому миру или отдельным его персонажам. Апелляция уже сама по себе является способом обозначения присутствия адресата. Из ее содержания явствует, какие именно взгляды и позиции нарратор подразумевает в адресате, а какие он считает возможными. Апелляция в принципе никогда не становится нулевой, она существует и в высказываниях с преобладающей референтной функцией, хотя бы и в минимальной форме, подразумевающей такие апелляции, как «Знай, что...» или «Я хочу, чтоб ты знал, что...». Один из особых видов апеллятивной функции — это функция импрессивная. При ее помощи нарратор стремится произвести определенное впечатление, которое может принять как положительную форму (восхищение), так и отрицательную (презрение). (Последнее нередко наблюдается у парадоксалистов Достоевского.)
Под ориентировкой я понимаю такую установку нарратора на адресата, без которой не может существовать сколь-нибудь понятного сообщения. Ориентированность на адресата влияет на способ изложения и поэтому поддается реконструкции.
Ориентировка относится, во-первых, к предполагаемым кодам и нормам (языковым, эпистемологическим, этическим, социальным и т. д.) адресата. Подразумеваемые нормы адресата нарратор может не разделять, но он не может не пользоваться понятным для адресата языком и должен учитывать объем его знаний. Таким образом, всякий нарратив содержит имплицитную информацию о том, какое представление имеет нарратор о компетентности и нормах своего адресата.
Во-вторых, ориентировка заключается в предвосхищении поведения воображаемого реципиента. Нарратор может представлять себе адресата пассивным слушателем, послушным исполнителем своих директив или же активным собеседником, самостоятельно оценивающим повествуемое, задающим вопросы, выражающим сомнение и возражающим.
Нет другого такого автора в русской литературе, у которого наррататор играл бы столь активную роль, как Достоевский. В «Записках из подполья», в «Подростке» и в «Кроткой» нарратор каждое слово высказывает с «оглядкой на чужое слово» (Бахтин 1929, 92), т. е. с уста-102
новкой на активного наррататора. Нарратор, ищущий признания со стороны своего слушателя или читателя, оставляет в тексте разные признаки апелляции (в частности импрессивной функции) и ориентировки: он желает произвести на читателя или слушателя положительное или отрицательное впечатление (импрессивная функция), учитывает его реакции (ориентировка), предугадывает его критические реплики (ориентировка), предвосхищает их (импрессивная функция), пытается их опровергнуть, ясно при этом сознавая (ориентировка), что ему это не удается. Такое повествование, где наррататор воображается как активный собеседник, Бахтин в своей «металингвистической» типологии прозаического слова относит к «активному типу» «двуголосого слова» или «слова с установкой на чужое слово», т. е. слова, в котором одновременно «слышны» две смысловые позиции. В отличие от пассивного типа «двуголосого слова», где чужое слово остается беззащитным объектом в руках орудующего им нарратора, в активном типе оно воздействует на речь нарратора, «заставляя ее соответствующим образом меняться под
его влиянием и наитием» (Бахтин 1929, 90).
Повествование с оглядкой на фиктивного читателя («Подросток»)
Рассмотрим воздействие фиктивного читателя на повествование в «Подростке». Двадцатилетний Аркадий Долгорукий, нарратор в этом романе, обращается к читателю, который не обозначен ни как индивидуальное лицо, ни как носитель какой-либо идеологии. Единственный уловимый признак этой воображаемой инстанции — насмешка над незрелыми взглядами подростка. Для молодого нарратора читатель — представитель мира взрослых.
Об обращенности рассказа к читателю свидетельствует его импрессивная функция, обнаруживающаяся прежде всего там, где Аркадий пишет о себе, о своих мыслях и поступках. Признаки импрессивной функции — это переход от нейтрального, направленного на свой объект изложения к более или менее взволнованной автотематизации, которую сопровождает аффектированность лексики, синтаксиса и риторических жестов. Аркадий стремится произвести впечатление. В импрессивной функции скрыт призыв к взрослому читателю отнестись к нему, подростку, с полной серьезностью. Призыв к признанию обнару-103
живается как в жестах, приукрашивающих действительность, так и в подчеркнуто
уничижительных. В последних наряду с желанием произвести впечатление при помощи
отрицательной стилизации самого себя можно обнаружить и диаметрально противоположное
стремление, лежащее в основе той структуры, которую М. Бахтин называет «слова с лазейкой»:
Исповедальное самоопределение с лазейкой... по своему смыслу
является последним словом о себе, окончательным определением
себя, но на самом деле внутренне рассчитывает на ответную
противоположную оценку себя другим. Кающийся и осуждающий
себя на самом деле хочет только провоцировать похвалу и приятие
другого (Бахтин 1929, 129—130).
Стремление повлиять на читателя наталкивается в воображении нарратора на обратную реакцию. Ибо нарратор мнит читателя не принимающим его самостилизации, видящим его насквозь и реагирующим на исповедь насмешливыми, трезвыми возражениями. Поэтому наряду с апеллятивной функцией в этом повествовании действует постоянная ориентировка на реакцию читателя.
Смотря по тому, в какой мере ориентировка налагает отпечаток на текст нарратора, можно различать разные ее проявления. Самое обще из них сказывается в изменениях стиля и манеры повествования. Там где Аркадий Долгорукий выражается менее зрело, чем можно было бы ожидать от образованного двадцатилетнего юноши, где он впадает в жаргон подростка со стереотипными, часто гиперболическими выражениями, где он прибегает к тону безапелляционному, — он как бы оглядывается на своего читателя. Ориентировка такого вида сказывается уже в первых предложениях романа:
Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. <...> Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью (ДостоевскийФ. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 13. С. 5).
Учет адресата накладывает отпечаток, прежде всего, на изложение аргументации, на тон
высказываний, на изменения стиля. Но иногда нарратор прямо обращается к воображаемому
читателю. Недовольство
104
своей незрелостью, которую он ясно ощущает, приводит раздраженного подростка к нападкам на
читателя, в котором он видит беспощадного насмешника:
Моя идея, это — стать Ротшильдом. Я приглашаю читателя к
спокойствию и к серьезности (Там же. С. 66).
Приближаясь к окончательному изложению этой «идеи», уязвимость которой он ясно сознает, Аркадий, «оглядываясь» на читателя, восклицает досадно:
Господа, неужели независимость мысли, хотя бы и самая малая,
столь тяжела для вас? (Там же. С. 77)
Излагая «идею», Аркадий то и дело предвосхищает читательские объяснения ее становления с тем, чтобы их решительно отвергать. От предполагаемой у читателя понимающей и тем самым унизительной для него улыбки, сильнее всего раздражающей его, подросток защищает себя маской угрюмости, которую он, однако, под влиянием вероятных возражений не может не смягчать:
Нет, не незаконнорожденность... не детские грустные годы, не месть и не право протеста явились началом моей «идеи»; вина всему — один мой характер. С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей. Не то чтоб не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Слишком мне грустно было иногда самому... что я недоверчив, угрюм и несообщителен. <...> Да, я сумрачен... Я часто желаю выйти из общества (Там же. С. 72).
Чем более эксплицитно излагает подросток ожидаемые реакции читателя, тем больше
приближается повествование к открытому напряженному диалогу:
Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мною, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это (Там же. С. 10).
В некоторых местах ожидаемые реплики читателя приобретают даже форму автономной прямой
речи (источником которой, конечно, остается нарратор). Тогда повествовательный монолог
Аркадия распада-
105
ется на две, казалось бы автономные, речи, которые реагируют друг на друга диалогически:
— Слышали, — скажут мне, — не новость. Всякий фатер в Германии повторяет это своим детям, а между тем ваш Ротшильд... был всего только один, а фатеров мильоны.
Я ответил бы:
— Вы уверяете, что слышали, а между тем вы ничего не слышали (Там же. С. 66).
Если молодой нарратор уже не надеется спастись от разоблачительных возражений читателя, то он прибегает к излюбленному у Достоевского приему исповедующихся нарраторов — к парадоксальному отрицанию существования того самого читателя, которому адресовано отрицание:
Сделаю предисловие: читатель, может быть, ужаснется откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя: как это не краснел сочинитель? Отвечу, я пишу не для издания; читателя же, вероятно, буду иметь разве через десять лет, когда все уже до такой степени обозначится, пройдет и докажется, что краснеть уж нечего будет. А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только прием. Мой читатель — лицо фантастическое (Там же. С. 72).
Диалогизированный нарративный монолог
В «Записках из подполья» и в «Кроткой» Достоевский создал устную разновидность диалогизированного повествования — повествование с оглядкой на слушателя. В первой, философской части «Записок» (озаглавленной «Подполье») этот тип повествования принимает
форму, которую Михал Гловиньский (1963) называет «наррация как произнесенный монолог» (narracjajakomonologwypowiedziany). Эта форма, которую Гловиньский рассматривает в рамках польской литературы, распространялась в послевоенной европейской прозе под знаком экзистенциализма и философии абсурда. Образцом этого типа повествования стала повесть А. Камю «Падение». О сильном влиянии Достоевского на Камю свидетельствуют прямые аллюзии на «Записки из подполья» в «Падении».
«Произнесенный монолог» — это, по Гловиньскому, повествовательный монолог устного типа, который от классического повествова-106
ния отличается следующими чертами: 1) соединение элементов сказа с риторикой, 2) диалогическая обращенность к адресату, в свою очередь сильно влияющему на повествование, 3) перевес экзегесиса над диегесисом, служащим прежде всего аргументом и примером в философском столкновении со слушателем. От сказа этот тип повествования отличается 1) мировоззренческой тематикой, 2) интеллектуальностью аргументации, 3) внедрением элементов риторики.
«Кроткая» и вторая часть «Записок из подполья» по недостатку мировоззренческой тематики и интеллектуальной аргументации такому типу не соответствуют. Здесь представлен иной тип, который я предлагаю назвать диалогизированным нарративным монологом. По трем признакам, соединенным в этом названии, можно определить данный тип следующим образом: 1. Диалогизированность:
1. Диалогизированность: Нарратор обращается к слушателю, которого он воображает активно реагирующим. Повествование развертывается в напряжении между противоположными смысловыми позициями нарратора и адресата, подчас приобретая форму открытого диалога.
2. Монолог:
2. Монолог: Диалогичность нарратором только инсценируется, она не переходит через границы его сознания. Здесь нет реального собеседника, который мог бы вмешаться непредвиденными репликами. Для настоящего, подлинного диалога воображаемому собеседнику, взятому из собственного «я», не достает автономности, подлинной «другости». Поэтому этот квазидиалог, по существу, остается монологом.
3. Нарративность:
3. Нарративность: Этот диалогизированный монолог выполняет нарративные функции. Как бы ни был занят оглядывающийся нарратор апологией самого себя и напалками на слушателя, он все же рассказывает историю, преследуя цель нарративную, невзирая на все диалогические отклонения.
В «Кроткой» и «Записках из подполья» повествуемая история — история крушения. Но откровенное и, в конечном счете, истинное повествование здесь опять-таки связано с диалогическими функциями, а именно с апелляцией и, в частности, с импрессией. Логика такова: если нарратор уже не способен выделяться благородными поступками, то он старается, по крайней мере, произвести впечатление откровенностью 107
и беспощадностью своего самоанализа, бесстрашным предвосхищением чужого обличительного слова. Попытка импрессии путем предвосхищения чужих реплик своего апогея достигает в «Записках из подполья», где нарратор вкладывает адресату в уста следующее обвинение: <...> Вы говорите вздор и довольны им; вы говорите дерзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. <...> Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок... Вы действительно хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. <...> И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь! Ложь, ложь и ложь! (ДостоевскийФ. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. С. 121—122).
Диалогизированные монологи Достоевского — явление парадоксальное. Слушателя нет, но весь монолог обращен к нему. Воображаемый собеседник не является другим человеком, но говорящий
спорит с ним, вкладывает в его уста самые уничтожающие реплики, после чего он парадоксальным образом его же присутствие одновременно отрицает и подтверждает:
Разумеется, все эти слова я сам сочинил. Это тоже из подполья. Я
там сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался.
Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось. Не мудрено, что
наизусть заучилось и литературную форму приняло...
Но неужели, неужели вы и в самом деле до того легковерны, что воображаете, будто я это все напечатаю да еще дам вам читать? (Там же. С. 122).
В диалогизированных нарративных монологах у Достоевского имеется еще одна парадоксальная черта: отсутствующая другость наррататора, который остается проекцией нарратора, другим «я», как бы замещается другостью повествующего «я» по отношению к самому себе. Парадоксальность заключается в другости субъекта по отношению к самому себе, в том, что идентичное оказывается «другим». «Я» предстает себе таким чуждым, что ужасается своих бездн сильнее, чем чужих. Солипсизм диалогичности, перемещение другости снаружи вовнутрь — это характерная черта концепции субъекта у Достоевского. 108
Другость субъекта по отношению к самому себе, чуждость своему собственному «я» придает диалогизированным нарративным монологам у Достоевского ту действительную диалогичность, которой их лишает неавтономность воображаемого собеседника.
Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел литературоведение
|
|